она у их жила. Я-де своих детей бросил не для того,
чтобы чужих кормить. Да и то, правду сказать...
Стоя у открытой форточки с сигаретой, Лютров слушал ее негромкий голос,
следил за снующими над столом руками женщины, прибирающей посуду, и все
больше проникался неприятием духа этого дома, его устоявшейся тишины,
красных дорожек на хорошо выкрашенном полу, делающих неслышными шаги
хозяйки; безропотного признания Колчановым превосходства жены, его собачьего
послушания, а главное, того смысла сожительства этих разных людей, которое
принижало их человеческую значимость. Что связывает их? Какие общие
жизненные задачи они подрядились выполнить, несмотря на презрение женщины к
мужчине? Причем она даже не пытается это скрыть не только от него, но и от
посторонних, а он понимает, не может не понимать, а значит, принимает такие
условия, и это не приводит ни к разрыву, ни .к другим осложнениям, а
напротив, не мешает им жить, растить сыновей и считать себя вправе корить
образ жизни других.
Он едва сдерживался, чтобы не спросить, как это она со своим умом,
проницательностью, своей . недюжинной внешностью, наконец, выбрала в
спутники себе человека явно не по плечу?
- Вы давно замужем за Петром Саввичем?
- Мужа моего мне дедушка присоветовал, -- сказала она, словно не
слыхала вопроса, и едва не рассмеялась, приметив на лице гостя смущенную
растерянность. -- Вам ведь не то интересно, сколько я прожила с Петром
Саввичем, детишки-то вон они, а что я в нем нашла... Дед у меня, как бабка
Саша для Валерии, одним родным человеком и был. Отец на войне убит, мать
померла, а дедушка жил и жил и все книжки читал -- старые, в кожаных
переплетах, иных не признавал. Прочтет что ни то поучительное, меня зовет:
"Слушай, внученька, набирайся ума. Ум что казна, по денежке собирается.
Хорошие мысли не блохи, сами не набегут... Книга писана человеком крайнего
ума. Вещие, -- говорит, -- слова, про нынешнее время сказано, а потому
должен я увидеть, какой такой человек приданым твоим распоряжаться станет".
Последние слова хозяйка проговорила со спокойной уверенностью и после
некоторого молчания -- стоит, нет ли? -- уточнила, что за ними разумелось:
- Мужниного тут немного, дом на дедушкины деньги ставлен... И уж совсем
от болезней захирел, едва ходил, а все свое, все обо мне. "Какой парень
глянется, ты, -- говорит, -- его ко мне, поглядеть". -- "Ну тебя, -- говорю,
-- дедушка". -- "Да не бойся, внученька, неволить не буду, решать тебе,
потому как равенство, а поглядеть приведи, может, и мое слово нелишне
будет".
Лютров улыбнулся, ожидая, что и хозяйка усмехнется вздорным на его
взгляд словам деда, но лицо ее оставалось неизменно спокойным, как и скупые,
небрежно ловкие прикосновения пальцев к убираемой со стола посуде.
- Когда аэропорт строили, народу понаехало много. Из деревень, да и
совсем не наших. Клуб на стройке открыли, танцы, почитай, каждый день... И я
раз увязалась за девчатами. А как пришла да поглядела на приезжих женщин --
груди вздернуты как повыше, повидней, бери, мол, кто смелый, твое. Губы
крашены, ресницы крашены, в туалете курят, юбки в обтяжку... Испугалась я,
вспомнила дедушкино чтение, да и бежать оттуда. Девчата меня за руку,
погоди, ошалела, что ль, вместе пойдем... А рядом парень стоял в форменном
пиджаке, "Я тоже в город, -- говорит, -- так что могу проводить, если не
возражаете". Поглядела, парень не особо крепкий, если что -- уберегусь, да и
в форме. Так и познакомились. С полгода ходил к нам. "Как, -- говорю, --
дедушка, приглянулся Петя?" -- "А ничего, ничего... Головой не шибко силен,
но гнезда не разорит. Коли не жаль девичества, выходи, будешь сыта и
обогрета".
Последнее было сказано негромко, из некоего отдаления, словно она не
рассказывала уже, а размышляла вслух о ей самой непонятных вещах.
- Что ж, надо думать, прав оказался дедушка, -- сказал Лютров.
"А девичества вам жаль", -- подумал он.
Хозяйка вскинула на него внимательные глаза, будто услышала не то, что
он сказал, а что подумал, но лицо ее не изменилось, и в невозмутимости этой
жила, уютно угнездившись, некая прирученная и плодовитая правота. "Что бы вы
там ни подумали, -- говорило это выражение, -- а у меня свой расчет, не
вашему пониманию чета".
Прибрав белую скатерть, под которой оказалась темная бархатная, она
прошла на кухню, погасила там свет; вернулась, включила бра у изголовья над
тахтой, выключила большую люстру в виде цветка ландыша, пожелала гостю
спокойной ночи и прикрыла за собой двери спальни.
Лютров еще докуривал сигарету, когда за дверью в прихожую заворчала и
несколько раз пролаяла собака.
- Кто-то свой, -- определила хозяйка, выходя в халате и наскоро
закручивая в узел длинные волосы.
Она долго не возвращалась. Из всего приглушенного толстой дверью
разговора Лютров разобрал только несколько раз повторенное просительное
обращение: "Тетя Маша". Наконец, дверь отворилась, и вместе с хозяйкой в
комнату вошла высокая девушка в плаще и с чемоданом, обе стороны которого
пестрели крупной белой клеткой по синему фону. Что-то необычное почудилось
Лютрову в ее лице.
- Здравствуйте, -- очень охотно, но тихо проговорила девушка, сверкнув
белками огромных глаз, внося в дом какое-то свое шумное, свободное и быстрое
дыхание, едва сдерживаемую подвижность, словно только прибежала из кино, с
улицы, и никак не освоится с теснотой дома.
- Видишь, -- доказательным тоном проговорила хозяйка, имея в виду
гостя, -- так что не обессудь, переспишь на кухне.
- Ой, конечно! Я прямо на полу. Спасибо вам, тетя Маша!..
Она так искренне благодарила хозяйку, что когда поворачивалась в
сторону Лютрова, глядела на него с благодарной улыбкой, и тогда он снова
видел сверкающие белки глаз, но, как ни пытался, не мог получше разглядеть в
полутьме комнаты наполовину угаданную им красоту лица девушки.
- Снимай плащ и иди на кухню, дай людям покой, -- строже, чем
следовало, с нотками ревнивого укора в голосе сказала Марья Васильевна,
стремительно направляясь в спальню.
Девушка положила чемодан у двери, с резким шелестом сняла "болонью",
выказав острые маленькие груди, укрытые алой кофточкой, быстро повесила плащ
у двери и послушно, не взглянув больше на Лютрова, словно и это было
запрещено ей, пошла за хозяйкой, несущей в руках темную подушку и байковое
одеяло. Тощий постельный набор вполне соответствовал застывшему на лице
Марьи Васильевны непреклонному неудовольствию, и потому Лютров решил, что
попросившая ночлега девушка принадлежит к тем знакомым хозяевам дома, с
которыми здесь не церемонятся, в отличие от него, чья постель благоухала
белым уютом.
В кухне вспыхнул свет, четко обозначивший квадрат мутного стекла на
дверях, что-то неприязненно громыхнуло, послышалось лязганье металлических
распорок раскладушки, донесся шепот: "Я сама, тетя Маша!"
Когда хозяйка выходила, Лютров успел приметить склоненную фигурку
девушки, осыпавшиеся на лицо длинные прямые волосы.
В доме снова все стихло. Лютров принялся возиться с застрявшим внизу
бегунком застежки на куртке и увидел слева па полу медленно расширяющуюся
полоску света, тянущегося в сторону кухонной двери. Подняв голову, он
разглядел просунутую в щель руку и призывные взмахи длинных пальцев. Лютров
подошел. Его еще раз поманили, теперь уже одним пальцем, чтобы склонился
пониже.
Он нагнулся и услышал:
- У вас есть сигареты?..
В узкой щели Лютров приметил предостерегающе приложенный к губам
указательный палец. Он понимающе кивнул и просунул пачку.
Из кухни пахло ванилью, тестом, черным перцем, шелухой луковиц. Пока
она неумело выуживала из пачки сигарету, дверь приоткрылась побольше,
показалась матово белая рука, худенькое плечо е пересекающей ключицу
бретелькой и кружевное начало сорочки.
- Спасибо, -- шепнула она, возвращая сигареты.
- Спички?
- Не надо, здесь есть.
- Вы ужинали?
Она отрицательно покачала головой.
- Там пельмени, поищите.
Она едва не прыснула от его тона заговорщика.
- Как вас зовут?
- Алексей.
- А меня Валерой... Спокойной ночи!
Когда Лютров разделся и лег под толстое одеяло в шершавом
пододеяльнике, пахнущем чужой постелью, он вспомнил, что об этой девушке
говорила ему хозяйка, это она наезжает к матери в Энск и теперь опять
собралась лететь по билету со скидкой, а из головы не шло худенькое плечо в
развале длинных шелковистых волос, какая-то беспомощная бретелька и
кружевное начало сорочки. Он опять не смог как следует разглядеть ее лицо...
Лютров долго прислушивался к той темноте, что была за дверью кухни, к
тонкому пружинному звону раскладушки, представлял Валерию лежащей на ней
калачиком, дышащую кухонными запахами, тяжко томился на своем снежно-белом
крахмальном ложе и повял наконец, какая основа объединяет хозяев этого дома.
Превыше всего, превыше всех и всяческих человеческих смыслов, чувств,
склонностей, желаний, любовных утех, материнства и отцовства здесь
почитается пожизненная прочная сытость. Она над ними. Умри завтра Колчанов,
и под этой крышей не преминет появиться другой немудреный и настырный
добытчик сытости, которому предоставят блага дедушкиного наследства, чистую
постель и все хорошо отмытые прелести вдовы.
Собака и впрямь была скверная. Избалованная вниманием и сытой
кормежкой, развращенная бездельем и детьми, она рано постарела, поглупела и
страдала одышкой. По званию это был дратхаар, по происхождению аристократ,
хоть и без герба, но с гербовым свидетельством о предках, до пятого колена,
как сказал хозяин, когда они ехали в машине. А по существу, лентяй и
шаромыжник, как и всякий опустившийся дворянин. Воды пес не терпел, подходил
к ней с кошачьей брезгливостью, и, если нельзя было обойти мелководье, он
заглядывал в лицо Лютрову, будто спрашивал: "Доколе брести-то?"
Близко к чистой воде было не подойти, пришлось устраиваться на краю
заболоченной части большого озера, на противоположной от восхода солнца
стороне раскидистого ольхового куста.
С полчаса Лютров старательно оглядывал небо над водой, ожидая начала
лета утиных пар, но медленно ясневшее небо оставалось пустым...
От края болота, где они с дратхааром без толку отсидели долгую зарю, и
до холмов вдали тянулась уже тронутая зеленью равнина. Небо скрыли облака,
и, хоть давно наступило утро, все казалось, никак не обедняется. Обходя одну
из бесчисленных мочажин в поисках уток, Лютров наткнулся на человека в
тужурке на поролоне, какие иногда выдают егерям. Он стоял спиной к нему и
скучающе размахивал толстым прутом, целясь в нечто у ног. Подбежавший
дратхаар вывел человека из задумчивости. Малое время она смотрели друг на
друга. Пес, видимо, подыскивал другого хозяина, пусть с палкой, лишь бы
избавил его от утренней сырости и вернул на старый диван в сенях.
Оглядевшись и приметив Лютрова, человек решительно зашагал в его
сторону. Шел он улыбаясь, будто с подарком, и Лютров невольно улыбнулся. Они
поздоровались. Хитро сощурив глаза, человек ткнул палкой в сторону
обманутого в своих ожиданиях пса и проговорил то ли насмешливо, то ли
сочувствующе:
- Испачкался.
Человек был стар, худощав, мал ростом, но быстроглаз и подвижен. Когда
он, здороваясь, приподнял треух, на его небольшой круглой голове
обозначились короткие, совсем белые волосы, не только подчеркнувшие старость
его, но и придавшие ей черты благолепия.
- Нетути, видать, дичи-то?
- Не видно, отец.
- То-то и оно, милок, то-то и оно, -- по-деревенски напевно
посочувствовал старик. -- В тридцатом годе утей этих летало -- их-их!..
Несметно. Ноне же воронье одно. Они, сказывают, по триста лет каркают,
мать-перемать! Он оглядел небо, словно выискивая исчезнувших утей.
- Эвон за тобой бугорок?.. Оттуда и до самой реки старица ширилась,
угодья, значит. Пересохло. А с чего -- неведомо.
Грех не помочь хорошему человеку, если ему хочется поговорить.
- Сами-то откуда, папаша?
- А из Сафонова, -- он махнул рукой в направлении лугов. -- Так и
прожил при этой земле всю жизнь.
- Сколько же вам?
- Годов, что ли? А девяносто без одного, о как!.. Холеру помню. Я один
и помню. Бугорок я тебе указал, так в ем холерные упокоены, яма в том месте
была, туда и носили.
- И много померло?
- Да, почитай, вся деревня. Мы, Комловы, да Козыревы, да Боковы, да
Ярские -- только и родов осталось по неизвестной причине. Может, бог уберег,
а может, бахтерия облетела, это как хоть понимай.
- Говорят, у вас в Сафонове одни староверы жили?
- Жили... Теперь ни старой веры, ни новой, всяк по своей живет. Вот и я
без веры остался, живу.
- Здоровье у вас хорошее.
- А ничего здоровье. И в молодости не жалился, а теперь пуще. Это ведь
как: до полста тянуть тяжело, вроде в гору, а с горы-то, сам знаешь, легше.
Старик все больше нравился Лютрову. Он закурил и протянул ему сигареты.
- Не приучен. Отец табаку не терпел, прибить мог.
Говорил он выразительно, с легкой хрипотцой и с той непередаваемой
опрятностью в голосе, за которой, как за манерой перелистывать книги
угадывается библиофил, виден душевно талантливый человек,
С полчаса они говорили о разных разностях, а когда Лютров посетовал,
что собака у него дрянь, а не охотник, что надо ее отмыть да вернуть
хозяину, старик посоветовал;
- Шагай на гидру. Тамошняя вода чистая, колодезная и берега песчаные.
- Что за гидра?
- Да пруд выгребла эта... машинизация.
- Гидромеханизация?
- Она.
- Намывают что?
- Моют, мать-перемать. Дорогу на Курвово.
- Далеко ли идти?
- Не. Пойдем укажу. Пусть животная поклюеть индивидуально. Корова тут у
меня в низине, старуха пасть посылаить на свежие корма, да опасается,
утопнет Буренка в болотине.
Пруд оказался и в самом деле недалеко.
Они прошли плотные заросли ольхи, поднялись на бугор, стали было
спускаться с песчаного обрыва и, как по команде, остановились: на отмели, у
рябившей под слабым ветром воды, вполоборота к ним стояла нагая женщина.
Сильное тело ее было розово от купанья, бросались в глаза ладные ноги,
медлительная непринужденность движений и видимая из-за поднятой руки полная,
тяжело опавшая грудь...
- Иришка, никак! -- охнул старик. -- Ей-богу, она... эка ладная баба,
мать-перемать... Бежим, однако, милок, не в кине.
Они быстро вернулись на другую сторону бугра и воровски присели у
кустарника. Дратхаар вопросительно глядел на Лютрова.
- Матрены Ярской дочка, -- доверительно прошептал старик. -- В любую
непогодь купается. Ишь где ярдань сгоношила, сюда идти-то в полчаса не
управишься... А хороша, а?
- Хороша, старик.
- Блюдеть себя... А для ради кого? Ей уж за сорок, а ни мужика, ни
робят.
- Что так?
- А вот так. Был у ей муж эдакий, с придурью. Мишка Думской. Да
житья-то промеж них с месяц никак всего и было. К матери сбежала.
- Случается.
- Чего не бывает, -- согласился старик, отнюдь не утешившись таким
выводом.
Метрах в трехстах над землей пролетел АН-2, гудя мотором. "Видно ли ее
сверху?" -- подумал Лютров и подивился ревнивому чувству. Когда самолет
затих, старик принялся говорить по-иному, раздумчиво, повествовательно, как
это ведется на Руси, когда рассказчик приглашает к прошлому:
- Отец ейной, Павел Ярской, крепкий мужик был, в плотницком деле
умелец, веселой души человек. Выпить любил, однако ума не пропивал, не
охальничал. Дочь баловал, это да. Услышит бывало-ти, парни из-за Иришки
передрались, гордится: "Ай, девка!.. Слышь, мать, председателеву-то парню в
месяц не отлежаться. Молодец, Иришка, отцова дочь! Знай наших! Теперь живи,
малец, помнить будешь!" У него присловье такое было -- живи, помнить
будешь... Да... В девках Иришка-то красавица была, парней возля нее как
пчел. Где какая гулянка, она первая плясунья. Отец не противился. "Гуляй, --
говорит, -- сколь хочешь, нету моего тебе запрету, чтоб не гулять. Но коли
нагуляешь по-бабьему, вот те слово -- убью. Одна ты у меня, оттого не
пожалею. Не спеши, свое возьмешь". Оно бы и впрямь так было, да тут война.
Мужиков вымело. Иные-другие выходили замуж абы как себя жалеючи, она -- нет.
Мать говорила, отца ждала, чтоб, значит, на свадьбе погулял, а его,
Павла-то, в сорок четвертом под Яссами румынскими убило. А как война
прогудела, то и парней-то ей под стать не шибко убереглось. Уходили миром, а
вертались по-одному... Ты вот скажи, милок, верно ли, будто немцы в охотку
воюют, от характера якобы?.. Все-де им нипочем?
Выслушав ответ Лютрова, старик ухмыльнулся невесело, пожал плечами.
- Может, и верно толкуешь, только, в пример, русскому человеку, как ни
шей, не пришьешь такую воззрению, чтобы всякого инородца ни за что
изничтожать. Не тот предмет. Мы народ людский, в добре славу почитаем.
Старик привстал, высматривая корову в просвете между кустов.
- Игде она там, мать-перемать?.. Ну да ладно, не топор, сразу не
утопнет.
Выглянуло солнце -- словно развело огненным дыханием плотную пелену
облаков. Мир повеселел. Ярче обозначилась девственная желтизна песчаного
обрыва по ту сторону пруда, а за ним, если присмотреться, можно было увидеть
тускло-медные стволы сосен на окраине Сафонова.
Помню, свадьба у них неладом справлялась, не сладко на ней
елось-пилось. Жених что ни слово -- трясется паяцем, убью, орет, мне все
нипочем, потому как я Берлин брал, а вы тут одне тыловые крысы... Люди,
какие с фронта приходили, солдатского звания не теряли, а этот...
Старик разволновался. Голос его все более суровел, становился
неприязненным, словно он не рассказывал, а тщетно оспаривал Лютрова.
- Девкой жила как летела, а замуж вышла, глядь, и без крыла. Помаялась
с месяц да вернулась к матери, все меньше страму. А тому раздолбаю и горя
мало. "Таких баб где хошь найду. Подходи и "битте пробирен". По сей день
побирается, а жены все нет... Э, чего уж там!
Он поднялся и оглядел пруд.
- Иди, мой кобеля... Ушла.
Женщина уходила ленивой походкой рослых людей. Свободного покроя платье
сминалось на влажном теле крупными ломкими складками.
Минуту они молча смотрели ей вслед.
- Нехорошо бабе эдак-то, без мужа, без робят, а? Нынче как понимают?
- Нехорошо, отец.
- Чего хуже... Однако ж иттить пора, а то, гляди, взаправду сгинет
старухина частная собственность.
Он попрощался и боком спустился в ложбину, заросшую ольхой.
Он сидел над обрывом, следил, как бегут по лугам тени распуганных
солнцем облаков, и был в том состоянии, когда впервые для самого себя
открываешь, во что повергает людей вынужденная посадка. Дальше лететь
невозможно, время девать некуда, невольная остановка вперед расписанного
движения подсказывает: остановись и ты, подумай, все ли у тебя есть для
большой дороги... А что пройдено, то пройдено. Хотел ты того или нет, все,
что было с тобой и чего не было, -- твое. А ты -- это тончайшая вязь
духовного, накопленного тобой, и если до сих пор казалось, что жизнь твоя
выткана из всего хорошо осмысленного, то, наверно, потому, что ты никогда не
задумывался, так ли это. Ты глядел только вперед, как в полете у земли,
когда набираешь хорошую скорость... Впрочем, нельзя сказать, что ты никогда
не задумывался, так ли ладно все у тебя. Ты думал об этом осенью, получив от
вдовы брата его записки о детстве... Это как золотая монета, брошенная в
недвижную воду прошлого: волшебно поблескивая, она принимается сновать в
темной глубине, все дальше увлекая намять за причудливой ломаной линией,
туда, где было когда-то детство, была мать, был дед Макар, брат Никита...
Все жизни их тянутся к тебе. Ты держал в руках записки Никиты и в тайной
тревоге думал: кому от тебя перейдет память о них, твоих родных людях?.. Но
тогда эта тревога незаметно оставила тебя, как недолгое недомогание. Она не
могла пустить глубоких корней, потому что рядом был Сергей со своей веселой
уверенностью, что, несмотря ни на что, все на этом свете идет как следует...
Ничто так не старит душу, как смерть дорогих тебе людей. И ничто так не
отяжеляет прожитых лет, как потери. Лютрову тридцать восемь, и это уже не
молодость. Молод Долотов, о котором даже Боровский говорит: "Этот мальчишка
заставит себя уважать". Но и "мальчишке" тридцать три. И все-таки он молод,
молод Какой-то нелегко уловимой внутренней напряженностью юноши, который
обрел самую нужную, самую пригодную для жизни форму, и его невозможно
застать врасплох -- так содержательно ловок он.
Из стариков летает один Боровский, живая реликвия фирмы. Летает и не
думает уходить на пенсию, как это сделал Фалалеев, которого Боровский еще до
войны учил делу, а затем перестал замечать и даже здороваться. Теперь уже
ветеранами считают их -- Гая, Козлевича, Лютрова, Костю Карауша. Остальные
пришли по-разному, позже. Каждый год приходят молодые ребята. Они зовут
Лютрова по имени-отчеству и, кажется, любят его. По крайней мере, так
говорит Гай. Среди молодых есть настоящие работники. В них что-то от Бориса
Долотова.
Но Лютрову не обрести больше такого друга, каким был Сергей. Хоть он
любит Гая, чувствует и ценит его внимание. В те трудные дни после гибели
Сергея Гай будил Лютрова телефонными звонками по утрам.
- Встал?
- Ага.
- Отмокай... Погода плохая, считай, свободен от полетов.
- Нет, Гай, я приду.
- Своди на ус... И забегай вечером, жена просила. Житья не дает.
- Жениться тебе надо, -- наставительно шептала золотоволосая жена Гая,
-- ила просто сойтись с женщиной.
- А с замужней можно?
- Боже, конечно! -- охотно принимала она шутливый намек.
И спрашивала с недоуменными нотками в голосе:
- Как же это ты один? С ума сойти. Была же у тебя эта... длинная,
зеленая?
Лютров усмехнулся.
- Ладно, пусть не она, пусть другая, -- говорила жена Гая, и голубые
хрусталика ее зрачков излучали душевную теплынь щедрой на сострадание
русской бабьей натуры.
Где же она, эта женщина, которая займет в душе место матера, друга! По
доброте душевной жена Гая предполагает, что стоит Лютрову захотеть, и ему
повезет, как повезло ей. Совет счастливой женщины. Как бы она отнеслась к
такому совету, будь Гай на борту "семерки"? Где и как искали бы она все то,
что нашла в коричневых глазах мужа? Знает ли она, что Гай -- это все, что
выпало ей, что больше ничего не будет? Как ни приспосабливайся к мыслям,
голосу, рукам и телу другого, рожай ему детей, но тебе никогда не будет так,
как было с ним. И никакие советы не помогут.
Видимо, ему и впрямь не хватало вынужденной посадки, старого города
Перекаты, далеких ему людей и судеб, чтобы взглянуть на самого себя о тем
мудрым участием, с каким сострадал гордой женщине Ирине Ярской
девяностолетний человек.
Но не только это осознал Лютров, Он понял, что деятельное и доброе в
человеке незыблемо, а всякое отчаяние уязвимо жизнью, вот этой верой народа
в добро и правду, в необходимость человеческого счастья для всех и каждого.
Сколько видел, сколько всего пережил на своем веку этот крестьянин из
деревни Сафоново, а живая душа в нем неистребима, и никакие потери не
отвратят ее от людей, не сделают черствой и глухой.
И в этом все начала.
На память пришел рассказ Санина о первых минутах приземления после
прыжка из горящей машины.
-- Иду по деревне, -- вкрадчиво, словно боясь быть услышанным или
стыдясь чего-то, говорил Сергей, -- Рука в крови, на голове ЗШ с разбитым
светофильтром, парашют ребятишки волокут. На душе смутно, сам понимаешь. А
тут затащил меня председатель к себе -- ну там самовар, водочки, закусить
чем бог послал. И, понимаешь, сидит рядом старушка в белом платочке --
ветхая такая, глядит на меня приветными глазами, тихая, скорбная. "Как же
это ты, сынок?" -- "Да вот, бабушка, неудача..." И чувствую, как от сердца
отлегло малость. Так-то, Леша. Откуда ни свались к нашим людям, кругом ты
свой, везде дома, на всей земле. Весь народ наш как одна семья...
Лютров потрепал за ушами прильнувшего к его ноге дратхаара, улыбнулся
вопросительно вскинутым на него глазам собаки и встал, потягиваясь, напрягая
затекшие мышцы, наслаждаясь ощущением силы и свободы в себе. "Нужно жить,
нехорошо этак-то", -- подумал он.
Во всем теле было такое ощущение, будто его пробудили от тяжелого и
нездорового сна. На душе было радостно, думалось легко и освобожденно.
Лютрова необоримо потянуло к людям, к ребятам из экипажа, появилась
потребность рассказать и об этой встрече, и о своем просветлении, захотелось
услышать чей-нибудь беззаботный смех, окунуться в людскую суету.
"Как хорошо! Какое славное утро!.."
Оглядывая бескрайние луга с высоты холма над прудом, он видел, как над
зеленеющей далью, над бесчисленными озерами, над крышами едва различимого
города все лучистее, все праздничнее разгорается день, омывающий глаза
пахучим свежим ветром, возвращающий память к минувшей ночи, будто к своему
предтече, к дверям в доме Колчановых, где Лютров услышал негромкое, детски
обязательное "здравствуйте".
Так оно и случается среди людей, такими вот и бывают немыслимые
совпадения... А может быть, есть законы, подчиняясь которым его прошлое
должно было напомнить о себе как раз тогда, когда появилась эта девушка?
Чтобы уравновесить тяжесть пережитого вспышкой надежды?
Но почему она, ведь он и не разглядел ее по-настоящему? На это никто не
ответит. Да и нужен ли ответ? Надо ли доискиваться до причины, почему одно
небесное тело так любовно заливает светом другое, а "здравствуйте" тонкой
большеглазой девушки не молкнет в его душе, живет радостной вестью. О чем?
Когда она улетает? Ведь она улетает, это о ней говорила хозяйка дома.
"Если мне повезет, я могу еще застать ее у Колчановых. Или в аэропорту".
Только бы не спугнуть, не оттолкнуть как-нибудь. Далась ему эта охота!
Теперь они вместе сидели бы у стола или добирались в аэропорт и по дороге
по-настоящему познакомились.
К девяти часам он вернулся к большому озеру, где попусту отсидел зарю,
и уже побрел было за дратхааром, обсохшим и повеселевшим, по дороге к
городу, но увидел петляющую по лугам навстречу ему черную "Волгу". Быстрота,
с какой неслась машина, и то, что она появилась раньше оговоренных десяти
часов, настораживали.
- Петр Саввич говорит, ваше начальство прилетает, -- сказал шофер.
Разогнав машину в обратный путь по удивительно гладкой луговой дороге,
он спросил:
- Небось и не стреляли?.. Ясно, весна. Тут бы салаш хороший, чучела или
пару подсадных, а так что. Вам бы с Петром Саввичем, он-то места знает.
Замедлив ход у отлогого спуска к реке, волнисто придавливая понтоны и
мягко шлепая колесами по дощатому настилу наплавного моста, "Волга" резво
выскочила к началу крутого склона холма на другой стороне и зигзагами стала
подниматься, оставляя то справа, то слева стоящую на краю склона
многоярусную колокольню. Берег у воды был уставлен лодками, и Лютров до тех
пор мог видеть их лежбище, пока дорога не перевалила через холм и не
показались первые, совсем деревенские дома окраины города. С этой стороны он
выглядел деревней -- старой, глухой и сонной: ни нового дома, ни яркой
вывески, если не считать куска оберточной бумаги с написанными вкось и
вкривь красными буквами: "Веселаи ребята". И только мощенная крупным
булыжником улица намекала на бытность Перекатов заштатным уездным
городишком.
Чем ближе подъезжали они к дому Колчановых, тем сильнее не терпелось
Лютрову узнать, там ли еще Валерия или ушла. И когда улетает ее самолет.
Спросить у шофера. Нет, еще ославишь. Шут его знает, как тут расценивают
такие вопросы.
Сразу же после прихода в дом Лютров отметил, что у дверей нет ни плаща,
ни чемодана, а затем никак не мог перебить хозяйкины расспросы об охоте,
набраться духу спросить, где Валерия.
Помогла Марья Васильевна.
- Чай горячий... Мы перед вами с Валерой пили. Да о вас говорили.
- Вот как.
- "Я, -- говорит, -- уже познакомилась с ним". -- "Вот, -- говорю, --
выходи за такого, он тебя никому в обиду не даст..." Она у меня от ухажеров
пряталась, проходу девке не дают. И чего привязались?
- Это вы про нее говорили, что к матери собирается?
- Так сегодня и улетает... "Нужна, -- говорит, -- я ему".
- Когда же ее самолет? -- неловко перебил хозяйку Лютров.
- В четыре, что ли. Или в пять. "Пойду, -- говорит, -- к девочкам на
работу, а оттуда на самолет".
- Ну, спасибо вам за привет, за угощенье... Побегу. Не поминайте лихом.
- И вы нас не забывайте, -- сказала Марья Васильевна и, не отпуская
рука Лютрова, просто сказала: -- Девушка она хорошая.
- Ваша правда. Случится быть в Энске, заходите. Адрес и телефон я Петру
Саввичу оставлю. До свидания.
Самолет прибыл только после полудня. Кроме представителей завода
двигателей и нескольких механиков, вместе с Даниловым и Гаем прилетел один
из замов главного, тучный Разумихин, о котором в КБ сложилось мнение как о
человеке умном, несомненно правой руке Старика, но "не разумеющем политесу"
в обхождении. Разумихин помнил Лютрова по работе на С-04, они часто
встречались в ту пору, и теперь, по прошествии многих лет, эта встреча и
тон, в каком велась беседа, были отмечены налетом сообщничества,
предполагающего, будто они знают друг о друге много больше, чем это может
прийти в голову окружающим.
- Молодчина, -- булькающим басом повторил Разумихин, хлопая Лютрова по
плечу. -- И вы не лыком щиты, не растерялись, так его разэтак! Кто штурман?
Ты? Голова шурупит... Ну пойдем глядеть. Поглядим, поматерим двигателистов
да будем решать, как дальше жить.
Гай держался на шаг позади начальства, наклонившись к своему земляку
Косте Караушу, выслушивая подробности полета, наверняка обращенных Костей в
не очень длинный анекдот.
Высокий узкоплечий Данилов долго не отпускал ладони Лютрова, как
всегда, без тени улыбки высказал свои соображения:
-- У меня было время узнать кое-что об этой полосе и рассмотреть ее с
Воздуха. Минимум необходимой длины для С-44, но не это самое страшное, скажу
вам по секрету. Толщина бетона не должна была выдержать машину. Вас выручил
лессовый грунт.
Дождавшись своего времени, Гай взял Лютрова под руку и, принудив его
поотстать от всех, негромко спросил:
- Данилов сказал тебе о "девятке"?
- Нет.
- Он назначил тебя на доводку С-14. Перегонишь этот дормез и принимайся
за дело.
Это было самым неожиданным из всего, что он услышал.
После катастрофы "семерки" на коллегии министерства разбирался вопрос о
целесообразности дальнейших испытаний С-14, высказывались сомнения о
верности самой "идеологии" конструкции, которая-де не радует пока ожидаемыми
летно-техническими данными. Возобновление работы после длительного запрета
значило, во-первых, что Соколову не просто было убедить коллегию дать
"добро" на доводку самолета; во-вторых, от результатов испытаний "девятки"
зависит не только авторитет КБ Соколова, но, что на порядок важнее, сроки
запуска в серию первого сверхзвукового самолета подобного класса. Неудача
перечеркнет труд тысяч людей, вынудят начать разработку проекта машины
заново, а для этого нужно время.
Если в такой ситуации Данилов назначил ведущим летчиком С-14 Лютрова, а
не того же Долотова, обладающего несомненно большим опытом работы на машине,
то причиной тому или какие-то особые соображения начальника отдела летных
испытаний, или не обошлось без доброжелателей.
- Ты руку приложил? -- спросил Лютров Гая.
- Бог с тобой, Леша! Ни сном ни духом! -- ореховые глаза Гая
погрустнели. -- Ты что, не знаешь Данилова? Он то едва шевелится, шага не
ступит без "расширенного заседания", а те вдруг бац -- "примите к сведению,
Донат Кузьмич"... Кстати, а почему бы и нет?
На недолгом совещании перед отлетом Разумихин объявил, что все
присутствующие, в том числе "эти трамтарарам, бракоделы-двигателисты",
пришли к заключению, что после установки нового стыковочного хомута машину
надлежит перегнать на аэродром базирования и поставить для смены двигателей.
А поскольку у экипажа нет возражений, командиру корабля предоставляется
право определить время отлета после окончания ремонтных работ.
Сразу же после совещания Разумихин, Данилов, Гай и несколько
представителей завода отправились к ожидавшему их ИЛ-14.
Во все времена были люди, принимавшие на свои плечи такое бремя
ответственности, которое оставляло позади опасения за собственную жизнь.
Военные хроники берегут многие примеры, когда распоряжающийся боем человек
забывает о себе, осознанно преступая черту самосохранения, понимая,
насколько важнее исход сражения в сравнении с его собственной жизнью.
Лютров не мог не понимать, что ему поручили именно такую работу. Не
потому, что С-14 более грозил его жизни, чем все самолеты, которые он
испытывал до сих пор. На его плечах впервые оказалась не только ноша
летчика-испытателя, но и нелегкий груз неудач, проклятием преследующих
машину. Вместо того чтобы высвободить КБ для следующего шага вперед, С-14
загораживает продвижение вперед, заставляет топтаться на месте серийный
завод, лишенный возможности собирать стоящие на стапелях машины без тех
доработок, которые должны быть испытаны на "девятке".
Обо всем этом думал Лютров и на стоянке С-44, где под бдительным оком
Углина и Тасманова работали механики, и по пути в здание управления
полетами, где нужно было сделать заявку на вылет, и в комнате синоптиков,
где ему давали прогнозы погоды на завтра.
Чтобы попасть в гостиницу, ему нужно было пройти через зал ожидания
аэропорта: гостиница стояла по другую сторону вокзальной площади.
Народу в зале ожидания было немного. У двойных стеклянных дверей выхода
на привокзальную площадь Лютров столкнулся с ребятами из экипажа.
- Леша, перекусить не желаешь? -- спросил Карауш.
- Вы ужинать? А куда?
- Здесь на втором этаже классный ресторан! Шашлык, цыплята, телятина...
Почти как в Одессе.
- Хорошо, я только загляну в гостиницу, вымоюсь.
- Вылет на когда? -- спросил Саетгиреев.
- На завтра, если все будет в порядке.
- По холодку?.. А то полоса в обрез, -- сказал Чернорай.
- Полосу отремонтируют, я узнавал.
- Ну, мы пошли, -- сказал Карауш.
Они двинулись к широкой ажурной лестнице на второй этаж, а Лютров,
шагнув было к выходу, почувствовал на руке выше локтя чьи-то цепкие пальцы.
Еще не разглядев, кто это, услышал:
- Проводите меня в камеру хранения, а?
- Валерия!
- Здравствуйте!
- Здравствуйте! -- Лютров немного растерялся и не сразу понял, о чем
она просит. -- Куда вас проводить?
- В камеру хранения, я чемодан возьму.
- Это где?
- Вот там, через площадь. Я боюсь, там парень... Владька. Он вообразил,
что может... командовать. Не хочет, видите ли, чтобы я улетала... А я к
маме.
Она смотрела то на Лютрова, то на трех парней, мирно стоявших на углу
небольшого зарешеченного здания камеры хранения. Один из троих, маленький,
лохматый и горбящийся в блатной манере, бренчал на гитаре, что-то напевал.
Двое других с нарочитой ленцой поглядывали по сторонам.
- Эти? -- спросил Лютров.
- Ага. Проводите? Я только возьму и обратно... А то самолет через сорок
минут.
- Кто же они вам?
- Так... никто. Бывшие друзья.
- А получше в этом городе не нашлось?
Она виновато улыбнулась и отрицательно покачала головой, все плотнее
сжимая его руку.
Они прошли через площадь. У входа в камеру хранения Лютров вспомнил,
что в последний раз дрался двадцать лет назад, и теперь прикидывал, кого
следует уложить первым, если эта троица выкажет кулачные намерения. Решил --
гитариста, такие бьют в спину и не всегда кулаками. Валерия торопливо отдала
служительнице камеры хранения бляшку, висевшую у нее на пальце, Лютров взял
чемодан, уже знакомый, синий в белую клетку, и они направились в обратный
путь. Троица стояла лицом к ним, дружно засунув руки в карманы, гитара
висела за спиной музыканта. Круглоголовый парень, в черно-красной капроновой
куртке, сизых брюках и аляповатых башмаках на толстой подошве что-то
говорил, не глядя на друзей. Музыкант, сощурившись, смотрел на Лютрова
ничего не выражающим бараньим взглядом и отрицательно покачивал головой.
- Ага, боятся, шепнула Валерия, -- и Владька тоже.
- Какой это?
- В куртке... Он у них хороводит. А этот, с гитарой, Митрофан,
противный, как жаба.
Они вошли в зал, девушка выбрала место поближе к трем, старательно
потевшим в новеньких мундирах, сержантам кавказского вида, увлеченно
игравшим в нарды, и облегченно выдохнула:
- Ух... Вот спасибо вам!
- Не за что, -- ответил Лютров, вглядываясь в побледневшее от волнения
лицо девушки.
Теперь он мог рассмотреть ее. Он не помнил, чтобы ему доводилось видеть
столь же законченно прекрасное лицо. "Господи, да откуда ты такая?" --
говорил себе Лютров, не решаясь ни уйти, ни остаться.
Она, видимо, заметила его удивление и его растерянность и улыбнулась --
впервые для него -- дружески.
- Вы летчик? -- она посмотрела на его кожаную куртку. -- Мне тетя Маша
говорила, А я не с вами полечу?
- На нашем самолете не возят пассажиров. Да и не попадете вы с нами в
Энск.
- Откуда вы знаете, что я в Энск?
- Тетя Маша говорила.
Вот и первая шутка. Невесть какая, но была достаточной, чтобы их
рассмешить. Лютров присел в кресло рядом.
- Я знаю. Вы прилетели на том, на большом?
- Да.
- А когда обратно?
- Может быть, завтра.
- Тогда не уходите, а? Пока я сяду в самолет? Тут хоть и милиция, а я
все равно боюсь... Вам не трудно?
- Что вы! Но чем просто так сидеть, пойдемте ужинать.
- А я успею?.. Правда, я сегодня еще и не обедала. Вообще все кувырком.
Ночевала у тети Маши, днем просидела у девочек на работе. Никак не могла
дождаться вечера.
Они поднялись в полупустой зал ресторана и присели у окна на летное
поле, отсюда можно было видеть в конце ряда ЛИ-2 их С-44.
Она проследила за его взглядом, спросила:
- Ваш?
- Да. Нравится?
- Ну и самолетище! Я таких и не видела... Ой, а мы не прозеваем здесь?
- Нет, наверно... Скажите, пожалуйста, посадки у вас объявляются? --
спросил он у подошедшей официантки.
- Обязательно. По радио. Что будем заказывать? Лютров посмотрел на
Валерию.
- Мне... все равно, чего-нибудь.
Он заказал что быстрее можно подать и съесть -- котлеты по-киевски,
бисквиты и кофе.
- Знаете, я впервые в ресторане.
- Немного потеряли.
- Нет, я потому... Вам со мною неловко, наверно?
- Неловко? Поглядите на моих друзей. Вон в уголке... Разве не видно,
что они умирают от зависти?
- От зависти?
- Конечно. Да и не только они. Разве у кого-нибудь еще есть такая
красивая спутница?
- А вы их позовите к нам.
- Не хочу.
Ее рассмешило выражение, с каким сказал это Лютров.
В это же самое время Костя Карауш встал и с независимым видом вышел из
ресторана.
- А что вы скажете им про меня? Скажите, что мы старые знакомые, ладно?
- Я так и решил. Что вы собираетесь делать в Энске?
- Работать. Я чертежница. До осени поработаю, а потом попытаюсь еще раз
поступить в институт. В вечерний.
- Вы уже бывали в Энске?
- Да. Я там часто бываю. Даже целое лето жила, когда отчим уехал. Он и
сейчас в отъезде, работает на Севере. Приедет через год... Маме одной
скучно.
- Вы бы вместе жили.
- А бабушка? Ей дом жалко. И не хочет она совсем. Когда я как следует
устроюсь, я ее к себе заберу. Знаете, какая она хорошая... Я ведь без отца
росла, возле нее. Невезучая, да?
- Почему? Я тоже рос без отца, видите, какой вырос.
- Ага, -- сказала она и опять засмеялась. Но неожиданно смолкла.
За стулом Лютрова остановился Костя Карауш, То, что у него кто-то за
спиной, Лютров понял по веселому недоумению на лице Валерии.
Выждав, когда, за столом замолчали, а Лютров повернул к нему голову,
Костя склонился, как метрдотель на дипломатическом приеме, и, все еще держа
руки за спиной, проговорил:
- Прошу прощения... Несколько мужчин, пожелавших остаться неизвестными,
просили передать вашей спутнице... Вы позволите?
- Мы позволим, Валера?
- Позволим!
- В таком разе прошу! -- Костя вытянул руку.
- Ой!
В руках у него покачивалось несколько длинноногих красных тюльпанов.
- Ой, спасибо!.. Откуда они?
Костя сделал вид, что открывать тайну ему нельзя, приложил руку к
сердцу и, очень довольный исходом миссии, отошел.
- Какой он потешный, этот ваш друг!
- Ага. Одессит, веселый.
- А вы где живете?
- В Энске.
- Ой, вдруг встретимся!
Лютров написал на листке блокнота номер своего телефона и протянул ей.
- Это на случай, если вам опять понадобится провожатый.
- Я и так позвоню. Правда, у мамы нет телефона, но я из автомата,
хорошо?
- Лишь бы было слышно.
- Знаете, хорошо все-таки, что я вас увидела. Мне теперь даже смешно,
что я боялась, пряталась.
- Ну и слава богу. Я тоже очень рад, что увидел вас.
Пока они сидели за столом и потом, когда он провожал ее к старому,
порядком обтертому ЛИ-2 и стоял у трапа в общей очереди, чувствуя
безбоязненные прикосновения совсем освоившейся с ним девушки, Лютров
проникся уже совсем родственной причастностью к ее отъезду, о чем-то
тревожился, а в момент, когда она, еще не протянув руки за чемоданом,
вопросительно поглядела на него, испытал такое сильное желание обнять ее,
наговорить каких-то благодарных слов, что едва принудил себя отдать ей вещи,
и при этом был так растерян, что не слышал сказанного ею на прощанье. А
когда увидел ее шагающей вверх но трапу, еще более обшарпанному, чем
старенький самолет, перебирающей ногами в черных туфлях, мучительно ждал,
что она повернется на прощанье, кивнет ему, но она не повернулась и не
кивнула.
Вылетали они в конце следующего дня. Тасманов заправил самолет
минимумом топлива, и они поднялись, не пробежав и двух третей взлетной
полосы, окатив Перекаты неслыханным здесь ревом двигателей, и резво пошли
вверх, оставляя за собой четыре едва приметных дымных следа.
- Надеюсь, еще не капает, уважаемый Иосаф Иванович? -- спросил Костя
Карауш.
Каждый из экипажа невольно улыбнулся: всем в голову пришло одно и то
же, но глагол истины послушен или детям, или юмористам.
Когда легли на курс, Лютров повернулся к Чернораю:
- Слава, возьми управление.
- Понял, командир.
Скинув шлем, Лютров привалился в спинке катапультного кресла и прикрыл
глаза, повинуясь желанию заново пережить в воображении две встречи с
Валерией, собрать воедино все, что успел увидеть и узнать об этой девушке с
византийскими глазами.
Он не мог заставить себя поверить, что она надумает ему позвонить. Это
немыслимо. У девушек ее возраста не может быть ничего общего с
тридцативосьмилетним мужчиной. Но ведь бывают чудеса? Гай, например... Ведь
никому не кажется странным, что, несмотря на различие в возрасте, они живут
дружно и счастливо?
Привалившись к спинке кресла, Лютров шаг за шагом вспоминал минувшие
два дня и невесело улыбался про себя: нужно было потерять пятьдесят тонн
горючего, сделать вынужденную посадку, рискуя развалить машину, чтобы
встретить бывшего курсанта, благодарного ему за то, что он так и не научил
его летать, познакомиться о его непростой женой, провести пустую зарю на
охоте, растревожиться судьбой совсем уж незнакомого ему человека --: Ирины
Ярской, всполошившей в ней все давнее и недавнее, и наконец увидеть Валерию,
с ее незащищенностью, доверчивостью к нему, с ее немыслимыми глазами, такую
легкую и непрочную среди всего прочного, сработанного на жизнь, что было в
доме Колчанова.
Было тягостно от простой, до боля ясной мысли, что по своей вине, по
душевному невежеству разминулся где-то в прошлом с такой же, теперь
бесконечно далекой от него девушкой.
На женщин, которых знал Лютров в далеком и не очень далеком прошлом,
при всей корректности отношений с ними, он глядел сквозь дымку известной
простоты, чтобы не сказать больше. И не только потому, что в среде
курсантов, а потом и женатых друзей в разговорах о женщинах присутствовал
налет пренебрежительности, не потому, что связи с женщинами принято было
скрывать как нечто дурное и стыдное, а потому еще, что это дурное и стыдное
считалось таким и теми женщинами, которых он знал.
Заканчивая училище, он познакомился и недолго дружил с работницей
типографии военного городка. Звали ее мудрено: Радиолиной. Жила она у старой
тетки. Дом их стоял далеко на окраине города, над глухим оврагом. Радиолине
страшно было возвращаться туда после работы одной, особенно в ранние осенние
вечера. Потом ему казалось, что именно поэтому она выбрала его, рослого и
сильного.
В замкнутой мирке училища изо для в день видишь одни и те же лица.
Видели друг друга и они. Сначала в каком-то коридоре неловко пытались
уступить друг другу дорогу, улыбнулись. Потом просто отмечали про себя, что
вон-де идет она, он, переглядывались, где-то разговорились, стали
здороваться, случайно встретились в городе, было занятно встретить друг
друга на улице, в непривычном месте. Наконец, на правах добрых знакомых
сидели рядом на собраниях, болтали не к месту, ходили в кино -- в училище и
в городе, ели мороженое, первое послевоенное лакомство, которое можно было
купить на улице. Осенью он часто провожал ее. Сначала до калитки дома, потом
до крыльца. Там и поцеловались. Она относилась к нему с подкупающей
доверчивостью, их отношения, насколько он мог судить, были чистыми,
хорошими. Случалось, он с нетерпением ждал вечера, чтобы встретить и
проводить ее домой. Было приятно обнимать ее, она не противилась.
Он стал бывать у нее дома, пить чай вместе со смешливой старушкой, ее
теткой.
В начале зимы его зачислили в рабочую бригаду, нужно было установить
дюжину столбов электропередачи, освещали новый тир. Лютрова послали крепить
изоляторы. Дело пустяковое: просверлить коловоротом три дырки да закрутить
скобы с насаженными на них белыми шишками.
Это был последний столб рядом с подстанцией на первом этаже жилого
дома. Лютров вскарабкался на него уже в темноте, свет из окон позволял
закончить работу. Устраиваясь поудобнее на монтерских "когтях", он заметил в
освещенном окне второго этажа знакомого преподавателя -- невысокого,
полнеющего весельчака с неистребимым румянцем на холеных щечках, с
маленькими усиками, которые он то сбривал, то отращивал вновь. Сейчас они
лишь слегка отросли и были так ровно подстрижены, что казались
нарисованными. Лютров упрекнул себя в подглядывании и принялся было за дело,
но отворилась блеснувшая белилами дверь, и он невольно покосился в окно.
Вошла женщина. Пока она пересекала комнату, он узнал Радиолину.
Офицер поднялся из-за стола, не останавливаясь, прошел мимо нее, запер
дверь. Радиолина прислонилась спиной к стене и, как показалось Лютрову, с
заинтересованной улыбкой следила за офицером. Она не сменила позы и когда он
подошел к ней, положил руки ей на плечи, потянул к себе, чтобы поцеловать.
Все с той же улыбкой, к которой словно бы и не прикасались, она глядела,
вскинув голову, на его руку, когда он, чуть отступив, потянулся к
выключателю.
А Лютрова обуял страх разоблачителя.
Обдирая руки и скользя "когтями", он слез со столба и посмотрел наверх.
Квадрат окна стал черным.
И все-таки не то, что он увидел и узнал, было самым скверным, а то, что
он ничем не выказал, что знает о ее посещении квартиры женатого офицера, и
по-прежнему провожал ее до дому, а когда там однажды не оказалось тетки,
посчитал себя вправе решиться на то, чего раньше не посмел бы сделать.
Все, что произошло тогда между ними, было и не могло не быть мерзко и
пошло непередаваемо: и потому, что она была близка не с ним одним, и потому,
что происходящее не могло быть описано иначе, чем только языком дурным и
стыдным. Самым же ужасающе стыдным для него было то, что она была его первой
женщиной. Ему и теперь еще становилось не по себе, когда он вспоминал
полутьму жарко натопленной комнаты и себя с ней.
Но у человека нельзя отнять человеческое. Несмотря ни на что, в Лютрове
неистребимо жило затаившееся в глубине памяти другое событие, почти совсем
лишенное деталей, оно все чаще приходило на ум как смутное подозрение об
ином влечении к женщине, где не чувственность, а властное чувство восторга
определяет стремление прикоснуться, приласкать, защитить ее.
Ощущение родственности доверившейся жизни, приобщение к дыханию
восхищенного тобой существа и еще что-то неожиданное и тревожное, но в ту
пору так и не разгаданное оставила после себя эта девушка.
Он хорошо помнил осень на Волге, город Балаково, госпиталь, где больше
года пробыл брат Никита после тяжелого ранения, и ее имя -- Оленька. Она
говорила, что в семье ее зовут Алешкой.
Тогда Лютров навестил брата, выходившего к нему за ворота уже без
посторонней помощи, опираясь на большую дубовую палку, витиевато изрезанную
каким-то солдатом-умельцем.
Там, у ворот госпиталя, Лютров и увидел ее. Она тоже приходила навещать
кого-то из своих родных. Он не помнил, как они познакомились и какие слова
помогли им так неожиданно довериться друг другу. Оставшиеся два дня его
отпуска они не разлучались, он и эта девушка из Балакова. Последнее, что
осталось в его памяти, были ее печальные и растерянные глаза, ее взгляд,
каким она провожала его на пристани.
Такой он и запомнил ее, девушку из Балакова.
Прохаживаясь по холодным палубам большого теплохода, плывшего вниз по
реке, он воображал, какими будут ее письма, что он станет отвечать на них, и
непривычные, никому не сказанные слова уже просились быть произнесенными, он
даже немного сдерживал их, чтобы не давать им воли. Свой адрес, простой и
короткий, он сказал ей у пристани, она не ответила тем же, а только кивала,
кивала на его просьбу писать. Но так и не написала...
А другие? Те, что были потом, когда он стал вполне самостоятельным
человеком в мог соблазнительно щедро расплачиваться в ресторане?
Спутницы этой поры совсем не были похожи на Оленьку-Алешку и ничего не
могли прибавить к тому, что тебе было известно. Ни прибавить, ни убавить.
Настолько ничего, что даже имена их вспоминаются не вдруг. Как звали ту
артистку, с которой тебя познакомили в день авиации?.. Она напоминала некую
разновидность дикой кошки с долгим и гладким телом, чьи неторопливые
движения отмечены грациозной целесообразностью, скрытой силой и уверенностью
в себе. В фигуре ничего выступающего, в одежде ничего лившего. Чаще всего на
ней было ненавязчиво облегающее вязаное платье цвета первых весенних
листьев, такая же шапочка детским чепцом, аккуратно прикрывающая уши и
волосы до последней пряди и придающая матово-смуглому лицу ту меру
инфантильности, которая если и не молодит, то выдает склонности. Ее глаза
казались темно-серыми до тех пор, пока она не поворачивала их в сторону.
Тогда в глубине зрачков рождался густой зеленый тон, словно рассыпанная по
кругу райка зеленая пыльца становилась плотнее, как голубизна стекла при
взгляде на торец. Ее губы, безупречно выкрашенные в густо-морковный цвет,
какой идет к определенному оттенку зеленого, очень выразительны, но
подвижность делает их неуловимыми в очертаниях. Они соблазнительны, но
слишком опытны. Женщин с таким ртом не путает откровенность за гранью
пристойного, они умны, наблюдательны, неболтливы, догадливы и умеют взять
все до предела от дарованной внешности. И вообще все, что можно взять. Ее
заботила лишь наследственная склонность к полноте да боязнь огласки... Она
выбрала странное место для свиданий: он ждал ее под мостом, у пригородных
касс. Она приходила туда во второй половине дня, шла пешком от своего дома и
без конца оглядывалась... Это и называлось любовью.
Санин был терпимее, его веселые, все понимающие глаза умели видеть в
женщинах не более того, что им нравилось в себе, а потому они считали Сергея
очень интересным мужчиной, несмотря на следы ожогов на скулах и подбородке.
Все скабрезное, походя адресованное женщинам и женскому, вызывало в нем
приступы раздражения.
-- Наследие кабацкого мира мещан, нравственный маразм, духовная суть
подонков, -- часто ругался он
И почему так: в куче мужики говорят не о девушках и женщинах, а "про
баб"? Ведь наедине с ними самая глухая душа отыскивает красивые слова?
Недотепы.
К Лютрову наклонился Чернорай.
- Леша! Иду на четвертый разворот. Сам сажать будешь?
- Да.
- Что за девушка была с тобой? -- спросил Костя Карауш, когда Лютров
застегнул шлем.
- Что, хороша?
- Все они в девках хороши! -- отозвался Чернорай.
Поглядев на лицо второго летчика, Лютров улыбнулся: Жена Чернорая имела
обыкновение публично напоминать о своих законных правах на его внимание, в
чем хоть и была, не одинока, но беспардонность применяемых ею методов
выводила из себя Чернорая.
- И где ты ее откопал? -- не унимался Костя. -- Хоть бы научил, как это
делается.
- Тебя научишь. А за цветы спасибо. Ты это лихо придумал.
- Идея Булатбека, ему и кланяйся.
- Но доставал-то ты, -- Саетгиреев и смотрел на Лютрова, и говорил так,
словно оправдывался.
- Да, Костя, где достал-то? Я там даже ландышей не видел.
- Ха! Аэропорт все-таки. Зашел к ребятам в летную комнату, так и так,
говорю, провожаем девушку, нужен букет. А там как раз ИЛ-14 из Астрахани
прилетел.
- Слава, выпускай шасси.
- Понял. Шасси выпущены.
- Давай закрылки.
Через минуту С-44, рокоча колесами, вольно катил по длиннейшей полосе
аэродрома.
К концу мая, с увеличением светлого времени суток, установилась
стеклянно-ясная погода, и летно-испытательная база грохотала так, как на
этом свете грохочут только аэродромы.
Со времени возвращения из командировки Лютров всего второй раз
появлялся на базе, в начале месяца и вот теперь. Все это время он пробыл в
КБ, работал на тренажере, помогая разработчикам уточнять "идеологию" будущей
автоматики на управлении "девятки". На аэродром его вызвал Гай-Самари:
утверждалась программа первого вылета С-441, и Лютрову, как одному из членов
методсовета, надлежало быть на заседании.
Он представлял себе, в каком состоянии сейчас, да и все эти дни
находится Чернорай. С-441 была не только первой его опытной машиной, которую
он поведет с самого начала испытаний; это был комфортабельнейший
пассажирский лайнер, каких еще мало знала мировая авиация. Создание машин
класса С-441 хоть и признавалось в принципе возможным, представлялось
специалистам проблемой с сотней неизвестных, "слишком большим шагом, который
нельзя сделать, не разорвав брюки", по выражению популярного западного
авиационного журнала. И вот до первого вылета этого лайнера оставались
считанные дни, и если погода продержится, то где-нибудь в середине июня
Слава Чернорай отпразднует "свой день".
Когда-то такой машиной для Лютрова был С-04, и она очень долго после
первого вылета вела себя безукоризненно. До тех пор, пока в полете целевого
назначения спущенная с крайнего пилона ракета не повредила гидравлику
выпуска шасси, из-за чего стойка правой ноги подломилась на пробежке после
посадки. Последние триста-четыреста метров машина была неуправляема.
Сорвавшись с полосы и надломив правое крыло, они с Сергеем Саниным едва не
свернули себе шеи.
- Ты понял что-нибудь? -- спросил Лютров, выбравшись из самолета.
- Чудак! Понял, что мы с тобой беседуем, а в остальном всегда можно
разобраться.
В другой раз их выручил паренек-электрик из отдела экспериментального
оборудования. Шасси не хотело выходить дальше чем до половины пути. Они
носились над летным полем, пока было горючее, и Лютров был уверен, что
сажать придется "на брюхо". А в это время тот самый паренек-электрик
прибежал к Данилову со схемой электрооборудования самолета и предложил
остроумнейший вариант аварийного выпуска, для которого нужно было отключить
от питания почти все бортовые системы. Решение было основано на его
собственных предположениях о причине невыхода шасси, а паренек оказался
прав. Проделав все предложенные с земли манипуляции, Лютров не без
радостного удивления воспринял вспыхнувший зеленый огонь сигнала: "Шасси
выпущено".
Как почти все машины Старика, С-04 стояла на вооружении вот уже
несколько лет. КБ Соколова умеет делать машины надолго. Но всему свой черед:
недалеко то время, когда на смену С-04 придет второй год "пробующий голос"
С-224.
Шагая вдоль линии ангаров к зданию летной части, Лютров видел, как
садится на малую полосу и тут же взлетает истребитель-бесхвостка. Видимо,
снимались посадочные характеристики. Кто на самолете? Гай-Самари? А может,
Витюлька Извольский, которого Гай недавно выпустил и очень старательно
готовил к испытаниям на штопор?
На ближней стоянке, в двухстах метрах от окон здания летной части,
механики гоняли все четыре турбовинтовых двигателя С-440. Дождевая лужица на
бетоне под винтами растекалась и дрожала, охваченная мелкой концентрической
рябью. А еще дальше, по ту сторону рулежной полосы, у нового С-224 осатанело
срывались на форсаж два мощных спаренных двигателя. Этот всепогодный
многоцелевой перехватчик в прошлом году поднимал Борис Долотов и уже
облетали Лютров, Чернорай и недавно зачисленный на фирму Федя Радов.
Когда Старик снял Долотова с С-14 за самовольный выход "за звук",
ожидали, что последуют какие-то еще более суровые меры, говорили даже, что
главный вообще собирается отказаться от услуг Долотова, но он не только не
отказался, но и ничего не имел против, когда Данилов давал Соколову
подготовленный им приказ о назначении Долотова ведущим летчиком на С-224.
Прав был "корифей": "мальчишка" заставит уважать себя, хотя, кроме
нешуточного выговора, ничем еще не отличен.
Взрывная струя С-224 рикошетила от отбойного щита, неслась вверх,
насыщая бледную голубизну неба легкой дымной вуалью. От рева дрожала земля,
Лютров чувствовал эту дрожь через подошвы ботинок, видел, как мелко
поблескивали стекла на ангарных воротах.
Беззвучные в этом грохоте, по площадке катили тучные топливозаправщики,
автомобили с пусковыми генераторами, заправщики жидкого кислорода. Дважды
мимо Лютрова пронесся красно-белый РАФ Наденьки, единственной девушки на всю
шоферскую братию аэродрома. Летом в клетчатой мальчишеской рубашке, зимой в
старенькой меховой летной куртке и вязаной шапочке, девушка-шофер обречена
была выслушивать бесконечные шутливые заигрывания летчиков, пока доставляла
их от парашютной к стоянке самолетов и обратно. Наденька никогда не
отзывалась на реплики такого толка и лишь косила на болтунов строгими серыми
глазами. Единственный, кто повергал ее в забавную растерянность, заставлял
краснеть и отвечать невпопад, был Гай-Самари. Впрочем, не только ее.
Наделенный изысканной вежливостью, неизменно в белоснежной сорочке и
безукоризненно отглаженном костюме, Гай выглядел "аристократом" даже среди
самых молодых и самых модных щеголей летного состава. Его появление в
конструкторских отделах фирмы вызывало заметное оживление среди женской
части сотрудников.
- Девочки, кто это? -- невольно восклицала какая-нибудь вчерашняя
студентка.
- Гай-Самари, старший летчик-испытатель. Или, ежели по-заграничному,
шеф-пилот, -- отвечали посвященные.
Иногда прибавляли:
- Соколов к нему слабость питает.
- Похож на итальянского графа. И фамилия какая-то... -- размышляла
вслух вчерашняя студентка.
И если мужчины иронически интересовались, откуда у нее познавая об
итальянской аристократии, то женщины молчали, им казалось, что сравнение
вполне подходящее.
В КБ его ценили (и не только Старик) не за впечатляющую внешность, а за
недюжинную пытливость, за аналитический ум, за редкую способность докопаться
до причин самых непредвиденных отклонений, отрицательно влияющих на
поведение опытной машины. Никто лучше Гая не мог обосновать психологически
неизбежные действия человека за штурвалом в самых запутанных происшествиях,
потому он и был постоянным членом всех аварийных комиссий.
Минувшим летом с серийного завода пришло сообщение о непонятной
склонности некоторых из выпускаемых истребителей вибрировать на больших
высотах. На заводе чуть ли не вслух говорили о каких-то темных дефектах в
аэродинамической компоновке самолета. Когда об этом сказали Старику, он
насмешливо хмыкнул и велел послать на завод Гая.
- Донат разберется.
Он сделал несколько полетов, но они не принесли разрядки. Предложенный
для проверки самолет отлично вел себя до высоты 12 тысяч метров, но стоило
затеи включить двигатель на форсажный режим, и машину начинало "знобить".
Дефект обнаруживал себя только в разреженной атмосфере, но откуда исходит
вибрация? По нескольку раз в день Гай сажал машину с чувством человека,
который ничего не может прибавить к уже известному; Подрулив к стоянке после
очередного полета, он принялся под насмешливыми взглядами заводских летчиков
с пристрастием осматривать закрылки, лючки, каждый стык обшивки, пока не
добрался до выхлопного отверстия двигателя. И тут нужно было быть Гаем,
чтобы отыскать едва приметные глазу следы наклепов в том месте, где тронутая
цветами побежалости жаропрочная сталь выхлопной камеры прижималась к обрезу
обшивки фюзеляжа. Гай запросил рабочие чертежи и убедился, что на них указан
лишь максимально допустимый зазор между несущей большие вибрационные
нагрузки выхлопной камерой и кромкой фюзеляжа, а на заводе умели работать и
подгоняли фюзеляж едва не вплотную к двигателю.
Зазор увеличили до максимально допустимого, и после следующего полета
Гай возвращался, по его словам, "как после свидания с девушкой, которую ты
очень ждал".
Его сдержанности, такту, умению вести себя можно было позавидовать.
"Воспитанный человек должен уметь слушать", -- говорил он и делал это как
никто. Обращался ли к нему моторист на стоянке, старая уборщица летных
апартаментов Глафира Пантелеевна или один на заместителей Старика, глаза Гая
излучали на собеседника столько участливого внимания, готовности помочь, что
самый мнительный человек уходил с уверенностью в расположении к нему
шеф-пилота известной фирмы.
- Ты родился дипломатом, Гай, -- говорил ему Костя Карауш, его земляк.
- Я рос в Одессе, Костик, -- тонко улыбаясь, отвечал Гай.
- Я тоже! -- с кислой миной парировал Карауш, давая понять, что не все
обаятельные мужчины вскормлены Одессой.
Что касается происхождения, то родословная Гая не поддавалась
расшифровке. По воспитанию он был типичным русским парнем, разве что красив
был не по-здешнему, чем и озадачивал навязчивое пристрастие некоторых
определять по внешности национальную принадлежность. Как-то в непринужденной
беседе с молодящейся дамой из КБ Гай остроумно заметил, что принадлежность к
нации определяет не прадед по материнской линии, а врожденная способность
думать и говорить на языке народа, среди которого ты родился и вырос.
Фамилия, порода, кровь -- это мистика; всякое стремление к обособленности на
этом основании или глупо, или подозрительно.
- А все-таки кем вы себя чувствуете? -- не сдавалась
дама-физиономистка.
- Зулусом, -- не очень вежливо ответил Гай и заторопился куда-то.
- Юмор какой-то, -- растерянно улыбнулась дама.
- Юмор -- это когда смешно и тому, над кем смеются, -- глубокомысленно
пояснил Костя Карауш, -- а сатира -- это когда ему уже не смешно.
- Да? -- сказала дама, ничего не разобрав.
- Не иначе, -- подтвердил Костя.
А когда дама ушла, добавил:
- Дура. Ей хочется видеть в Гае "восточного человека", милого ее
склонностям.
У Гая были иссиня-черные волосы, заиндевевшие мазками седых прядей,
зачесанных от висков за уши; лоснившиеся от старательного бритья сизые щеки,
всегда гостеприимно распахнутые глаза цвета орехового комля, решительный
нос, размашистая походка и широкая душа, раскрытая для всякого доброго
человека. Все в нем бросалось в глаза, все было незаурядным. Он напоминал
людей искусства -- актеров, художников, в традиционном представлении о людях
свободных профессий.
Рассказывая о себе в тоне печальной иронии, Гай говорил, что его мама
преподавала музыку. Он запомнил это потому, что "ученики приходили к ним в
комнату и давили гаммы, как клопов". Может быть, это помогло им, и они стали
Рихтерами и Гилельсами, но когда теперь он слышит пианино, у него
отваливается нижняя челюсть, а шея и щеки покрываются красными пятнами.
Его жизнь укладывалась в анкету с той легкостью, с какой она
заполняется у тех, кто не знает темных пятен в своем прошлом, кто, не
мудрствуя, старательно идет по однажды избранной дороге. С восьмого класса
перешел в спецшколу ВВС, оттуда в летное училище, потом служба в воинских
частях на востоке. Школу летчиков-испытателей закончил одновременно с
заочным факультетом МАИ и после назначения на фирму Соколова сменил ушедшего
на пенсию начальника летной службы Тримана, знаменитого авиатора тридцатых
годов, ровесника Чкалову, Громову, Спирину. Слабость Старика к Гаю
выказывалась в том, что он назначал его на самые сложные заказы, на
испытания экспериментальных образов тех самолетов, которые несли в себе
наибольшие надежды КБ. Говорили, что Гай был единственным из летчиков за всю
историю фирмы, которого Старик называл по имени, в то время как всех других
сухо величал по имени-отчеству. И не чудачества ради, а дабы не отличать от
тех работников, на которых простиралась не знающая компромиссов десница
Главного. Ведущие инженеры из бригады тяжелых машин слышали, как на вопрос
директора серийного завода, кто такой Гай-Самари и почему именно его
присылают поднимать головной экземпляр запущенного в серию С-44, Старик
сердито ответил:
-- То есть как кто такой? Летчик. Божьей милостью.
До той минуты, когда Гай сшиб своей "Волгой" студентку-выпускницу
медицинского института, рискованно перебегавшую улицу, он был непременным
участником холостяцкого времяпрепровождения в компании с Лютровым и Саниным.
Памятное происшествие повлекло за собой непредвиденные последствия,
развивавшиеся с быстротой и поворотами в стиле новелл О'Генри.
Не дожидаясь, пока прохожие накостыляют ему за содеянное или подоспеет
милиция, Гай мигом отвез пострадавшую в травматологическое отделение
ближайшей больницы, благо она находилась неподалеку, и в первые дни
просиживал у ее больничной кровати на втором этаже столько, сколько было
позволено, а затем и того больше.
На базе уже ползли слухи о "трагическом" происшествии, и Юзефович ждал
только официальной бумаги, чтобы приняться за Гая, но это было крупное дело,
сулящее соразмерные неприятности в случае неудачи, и Юзефович выжидал.
Движимый состраданием к земляку, Костя Карауш спросил Гая, будучи с ним
на борту С-44 в одном из долгих полетов:
- Что это за история с пешеходом, Гай? Ты сбил кого-то?
- Да, Костик, -- улыбнулся Гай. -- Это оказалась моя жена.
Больше Костя ни о чем не спрашивал, он ничего не понимал: у Гая никогда
не было жены.
А произошло вот что.
К концу пребывания в травматологическом отделении, когда привели в
порядок раздробленные пятки девушки, ее ждала еще одна неожиданность;
неудачливый шофер предложил ей стать его женой. Надо полагать, едва
подлечившаяся студентка сочувствовала себя в состоянии шока второй раз,
иначе трудно объяснить ее согласие. Золотоволосая медичка знала о своем
женихе не более того, что можно увидеть в ее положении. Но что-то успела
разглядеть, хоть и была почти вдвое моложе своего жениха. Наверно, не только
его умение носить костюмы с непринужденностью манекенщика, но и ту самую
живую душу, что сама по себе сказывается в человеке и зовется обаянием.
Она говорила Лютрову, что влюбилась в Гая уже постфактум, выигрыш выпал
при игре втемную. Впрочем, они разделили его поровну -- жили на редкость
дружно и как-то легко, необременительно друг для друга, точно два хороших
человека знали, были уверены, что встретятся, будут любить друг друга и что
это в порядке вещей. С тех пор, со времени их необычного знакомства, прошло
более трех лет, а, чуть пополневшая жена Гая, уже врач-педиатр, все еще
глядела на мужа как на обретенное чудо, словно не решалась до конца
поверить, что оно принадлежит ей.
Когда Лютров заходил к Гаю, жившему в одном доме с ним, а это случалось
часто после гибели Сергея Санина, и они, послушные привычке, заводили
профессиональные разговоры, она никогда не прерывала их, находила себе
какое-нибудь дело в затененном углу большой комнаты, старалась как можно
"меньше присутствовать" и украдкой поглядывала на них через плечо. Хотела
она того или нет, все в ее облике выражало обезоруживающе стыдливую
девическую привязанность к мужу. И для этого ее чувства все на свете,
казалось, было пустяками, кроме того, что Гай жив, Гай здоров, Гай курит,
Гай смеется, кроме того, что он рядом.
Она удивительно легко и быстро нашла общий язык со всеми друзьями Гая и
была пленительна как раз своей непосредственностью, открытостью, умением
принимать человека таким, какой он есть, -- редкое свойство красивой
женщины.
Бели верить многодетному Козлевичу, а он считал, что знает толк в
докторах, то жена Гая ко всему прочему была еще и отличным детским врачом,
готовым приехать по первому звонку, днем и ночью, если у кого-нибудь из
сорванцов Козлевича появилась сыпь на животике или синяк на затылке.
- А-ты можешь а-поверить мне, -- говорил, слегка заикаясь, Козлевич
какому-нибудь коллеге-отцу, -- лучше жены а-Доната никто тебе не поможет.
Союз двух счастливых людей, мужчины и женщины, выпадал из стойкого
представления Лютрова о хлопотности семейной жизни. Если бы он не знал Гая,
то решил бы, что его дурачат. В такие минуты Лютров считал, что неженат и не
живет такой же привлекательной жизнью лишь потому, что подобное совпадение
счастливых случайностей -- редкость, а он не одарен ни обаянием Гая, ни его
удачливостью. Но теперь, вернувшись из Перекатов, Лютров начинал
подозревать, что по-настоящему никогда не пытался определить, почему
все-таки вот такая семейная жизнь заказана для него. И вспоминал голос
Валерии: "Я позвоню вам, из автомата только..." -- счастье представлялось
ему и близким и невозможным.
У подъезда летной части Лютров столкнулся с Володей Рукановым, ведущим
инженером истребителя-бесхвостки. Неулыбчивый ведущий Гая-Самари отличался
неколебимой серьезностью, холодной и способной охладить всякую попытку к
легкомыслию, как если бы к этому его обязывала принадлежность к когорте
людей, обремененных ответственностью за скверные порядки в этом мире.
Блеснув ограненными стеклами очков с золотыми дужками, он посмотрел на
Лютрова так, словно определял, готов ли тот слушать или ему еще подождать.
- К концу дня приедет Николай Сергеевич. Есть распоряжение собрать
летный состав в его кабинете.
Руканов сделал паузу и добавил:
- Ему сообщили, что Боровский обвинил службу летных испытаний в
катастрофе "семерки", не менее того... Коль скоро потребовалось
вмешательство Главного конструктора, особое мнение Боровского может дорого
ему обойтись, не так ли?
"А тебе-то с какой стороны это важит?" -- подумал Лютров, так ничего и
не ответив Руканову.
Методсовет перед первым вылетом, в сущности, необходимая формальность
-- так считали многие молодые летчики.
Внешне как будто все так и было. Ведущие конструкторы различных
самолетных систем вкупе с представителями фирм-смежников вслух докладывают о
том, что куда продуманней изложено в соответствующих документах, -- о
готовности систем и изделий к первому испытанию в воздухе. На стенах зала
заседаний висели раскрашенные схемы, диаграммы, таблицы. Выступающие
знакомили остальных присутствующих с принципами обеспечения надежности
работы изделий, с резервированием возможных отказов дублирующими
устройствами, с методами проведенных наземных или летно-лабораторных
испытаний всего, что входит в жизнеобеспечение самолета. И на этот раз, как
и обычно перед первым вылетом, вопросов почти не было. Следуя привычному
порядку, председатель спросил командира о готовности экипажа, зачитал
короткую записку о рекомендуемых метеорологических условиях и пожелал успеха
всем присутствующим.
Но пустая трата времени на подобных методсоветах была лишь кажущейся.
Лютров знал, как важно для летчика до конца поверить в готовность машины, и
не по документам, а на этом столь представительном "конклаве", обладающем
пропастью знаний и опыта по каждому освещаемому докладчиками вопросу; как
важно для летчика их молчаливое согласие с докладчиками. Это не просто их
согласие, это молчание тех, кто может подняться, подойти к схеме и своей
эрудицией перечеркнуть поспешные заключения, высказать полновесное сомнение
в правильности предпосылок для успокоительного вывода. Это молчание
успокаивает любое тревожно стучащее сердце. И потому внешне
театрализованное, обреченное якобы на сонливую бездеятельность совещание, по
существу, имеет значение той главной подписи, которая как будто ничего не
меняет в существе дела, но подтверждает подлинность документа.
Когда почти все разошлись, Лютров подошел к Чернораю.
- Голова кругом, а?
- Не говори, Леша. Уж скорей бы вылет! Чувствуешь себя как в лифте,
который никак не остановится...
Освободившись, Лютров направился в комнату отдыха летчиков, чувствуя,
что соскучился по лицам ребят за время командировки и работы в КБ, по стуку
бильярдных шаров, по вечным перепалкам круглолицего холеного Козлевича с
Костей Караушем, по мальчишескому смеху Витюльки Извольского. И даже хмурый
Борис Долотов являла собою какую-то часть привычной картины жизни летной
службы базы, без него тоже чего-то не хватало.
Комната отдыха -- залитое светом помещение с огромными, во всю стену,
окнами, формой напоминало половину шестиугольника, средняя грань которого
выходила на летное поле. В центре стоял бильярд, слева от входа -- два
шахматных столика, затем круглый, прочно сработанный стол для домино.
Стулья, диваны, столики со многими отечественными и зарубежными журналами
стояли у боковых стен. На низких подоконниках ярко пестрели выпуски
экспресс-информации, толстые справочники, каждый вечер убираемые Глафирой
Пантелеевной в стеклянный шкаф у задней стены. Иногда в компанию деловых
изданий попадал завезенный из заграничной поездке рекламный журнал с не
очень одетыми красотками, восседающими за рулем спортивных автомобилей,
катеров, яхт; рекламные проспекты авиационных выставок, все с теми же
стереотипными улыбками безымянных девиц, как если бы присутствие их
загорелых телес превратилось в некую форму благословения прогрессу.
Единственный портрет, висевший рядом с большой, в половину задней стены
картой страны, изображал Николая Сергеевича Соколова.
Портрет был скверным. В генеральской форме с регалиями Старик выглядел
нарочито благолепно, каким он никогда не бывал в жизни, как никогда в жизни
не был военным, в чем нетрудно было удостовериться по старомодным овальным
очкам, они-то были всегдашними, сросшимися с гражданским обликом Главного.
Как правило, в комнате было тихо, как в холле санатория, но при
нелетной погоде, в дни собраний, иногда по утрам, когда в ней оказывалось
много народу, становилось шумно, клацали костяшки домино, возбужденно травил
"правдивые истории" Костя Карауш, обменивались новостями вернувшиеся из
командировки, обсуждались летные происшествия. Но прояснялось небо, в
диспетчерской трезвонили телефонами ведущие инженеры, и комната отдыха с
разбросанными на подоконниках брошюрами снова пустела.
И на этот раз в кресле у залитого солнцем среднего окна сидел, откинув
голову на спинку, один Гай-Самари. Он, видимо, только что вылез из своего
"малыша", у висков еще не рассосались красные пятна от зажимов защитного
шлема.
- Привет, боярин! Один?
- А-а, Лешенька! Дорогой мой!
Придержав в своей руке руку Лютрова, он качнул головой в сторону
самолетной стоянки, где черно-оранжевый тягач подкатывал к отбойному щиту
истребитель-бесхвостку.
- Я с утра на "малыше". Не мог быть на методсовете.
- Видел.
- Ну и как, глядится?
Зная пристрастие Гая к истребителям, Лютров пошутил:
- Разве это ероплан? Крыла чуть-чуть, горючего два ведра, а хвоста и
совсем нет.
- Так зато научная вещь, начисто лишена чувства юмора.
- Пробовал шутить?
- Искушался.
- Извольского выпустил на нем?
- Давно. Уже готовится к полетам на штопор! Ты знаешь, у него идет на
"малыше": каждый полет как наглядное пособие -- чисто, грамотно.
- К осени освободится?
- Витюлька?
- Непременно. Программа на двенадцать полетов.
Разговору мешал нарастающий, секущий звук турбовинтовых двигателей
С-440.
- "Корифей" намыливается? -- спросил Лютров.
- Он.
- Надолго?
- Нет, здесь в зоне.
- Тебе твой ведущий ничего не говорил о приезде Старика?
- Нет. По какому случаю?
- Я потому и спросил, надолго ли полет у Боровского. Помнишь, на
совещании у Данилова "корифей" разыграл негодование, раздухарился из-за
чепуховой неточности в составлении программы испытаний этого своего корабля,
связал ошибку с катастрофой "семерки" и выдал все вместе за принципы
постановки испытательной работы на базе?
- Ну! Я еще подумал, что примерно также фабрикуются теоретические
предпосылки для правительственных переворотов в банановых республиках... И
кажется, Данилов пожаловался Старику?
- После истории с Чернораем Данилов не посчитался со скверным
настроением Боровского...
- И поехал к Старику.
- И поехал к Старику.
Допек "корифей" Данилова, да и свидетелей много было. Так что Старик?
- Его ждут сегодня на базе. Решил поговорить разом со всеми.
- Читай: с Боровским, -- Гай жестом отстранил всякие предположения о
каких-то иных целях Главного. -- Главный отвинтит ему уши. Юзефовича не
знобит?
- Ну, если уж Володя Руканов озабочен, суди сам. С его-то какой
спрос?..
- Никакого. Но милый Володя себе на уме. Уж он-то настроится на нужную
волну. В его тактических методах продвижения по службе должное место
занимает умение блюсти реноме вышестоящих товарищей. Усек?.. Не собственный
престиж, а "ихний", и он делает это с рвением и тактом хорошего дворецкого.
Это не дешевый подхалимаж, когда какой-нибудь Юзефович изгибается до хруста
в позвонках, а стратегия. Володя никогда не скажет болвану, что он болван,
не встанет и не уйдет из зала, когда на трибуне битый час "докладает" тот же
Юзефович, как это третьеводни проделал Долотов, а вслед за ним начальник
бригады прочности Буним Лейбович. Руканов не прост, Лешенька! Он врос в
дело, как хорошо подогнанная пружина. Если ты услышишь от него нечто
определенное, можешь быть спокоен, тебе выдали результаты трижды
проверенного... Он пришел в авиацию не ваньку валять, он знает дело, он
понял, что Старик любит работников. Кто из ведущих может похвастаться тремя
вызовами в КБ для сугубо конфиденциальных бесед? Кстати, Володя ни словом не
обмолвился не только о вызовах к Главному, но и о предмете разговора.
Казалось бы, слухи о внимании Старика ему же на пользу? Ан нет, он тоньше,
ему не нужно дешевой популярности. Достаточно того, что о нем прослышал
Главный со товарищи. К тому же он знает, как трудно обрести безусловное
доверие Деда и как легко его потерять. Но, что ни говори, для руководителя
базы, для первого зама Старика и даже для министра Володя -- наиболее
предпочтительный вариант. Я не из тех, кто с чистой совестью бросит в
человека камень только за то, что он хочет сделать карьеру...
Слушая Гая, Лютров мысленно сравнивал его наблюдения со своими.
Уравновешенная порядочность Володи Руканова, тихая склонность
оставаться в стороне от всего, что не безусловно или может дурно повлиять на
его репутацию толкового инженера, скрывали какую-то чуждую русскому
характеру черту. Что похвального в том, что Володя никогда не воевал с
начальством, да и вообще никак не высказывал своего отношения к драке,
предпочитая в лучшем случае "при том присутствовать"? Настоящее дело не
оставляет времени для "делания карьеры".
- Боровский тоже на свой манер фрукт, но -- работник! -- продолжил
Гай-Самари. -- И с отличным послужным списком, за что ему да простится грех
гордыни. Ведь куражится-то из опасения остаться в стороне от больших дел, от
настоящей работы. Ну, есть, есть у человека эдакое... Но брось на одну чашу
весов эту пакость, а на другую положи летный талант "корифея". Слон и
моська.
- Стремление "делового человека" заполучить право руководить,
наставлять, командовать из убежденности в своем призвании к этому и
добиваться пусть громкой, но трудной работы -- не одно и то же.
- Володя очень способный инженер...
- Донат Кузьмич! -- прервал Гая диспетчер. -- Вас к телефону. Секретарь
Добротворского.
- Понял, иду. Уже беспокоятся, чтобы я вас, позвонков, не растерял до
приезда Деда.
Гай вышел.
Нельзя бросать камни в человека только за то, что он хочет сделать
карьеру". А ты либерал, Гай!..
"Сколько их, которые хотят? Когда он ее сделает, будет поздно, --
подумал Лютров. -- А сейчас ты даешь его сомнительным поползновениям эдакое
оправдание... Боже, сколько проходимцев самых различных разновидностей
рождено желанием преуспеть! И как доверчивы мы, как веруем в нравственную
самодостаточность общества, в его иммунитет против жуликов, а они живут,
паразитируют, покупают машины, строят дачки, И даже когда мы хватаем их за
руки, стыдно бывает не им, а нам..."
Лютров много читал и любил книги, но принадлежал к тем людям, которых
формирует не написанное, а уроки жизни. Только сопоставляя прочитанное с
собственным опытом, он или принимал или не принимал книжные премудрости.
- Все правильно, -- сказал Гай-Самари, входя к Лютрову, -- сейчас
говорил с Даниловым. Просит сажать всех, кто в зоне, вызывать, кто отдыхает,
и никого не отпускать с работы.
- Слухи подтвердились?
Если Володя сказал, это уже не слухи. Едет. Знаешь, я боюсь Старика. А,
что там я: когда он разговаривает с инженерами в КБ, у тех дрожат руки и
мозги перестают работать. Почему? Никто не знает. Ведь он ни разу не
злоупотребил властью. В чем дело, Леша?
- Не его боишься, а самого себя рядом с ним. Так и кажется, что ему
видна вся твоя глупость. Это и есть самое страшное. Для меня, во всяком
случае.
- Ты, пожалуй, прав. Когда Долотов выскочил за звук на С-14, помнишь?..
Он вызвал его к себе, а заодно и меня. "Ну, -- говорю, -- Боря, сейчас из
тебя вытряхнут твои партизанские способы доводить машины". -- "Бить будет?"
-- спрашивает и криво улыбается. Да ведь вижу: улыбается-то звуку своего
вопроса, а не сути. Идет как на растерзание. И я, глядя на него, начинаю
верить: вот войдем сейчас к Старику и получим полновесные затрещины. Зашли.
Сели. У него генерал, Данилов, какие-то ученые мужи из летного института.
"Извините, -- говорит, -- мне надо вот с этими разгильдяями словом
перекинуться". Те вышли. Сидим. У меня левая нога трясется, так я ее рукой
прижимаю. Гляжу, Долотов поднимается. Голова опущена, лицо белое. "Я больше
не буду". -- "Господи, -- думаю, -- что он говорит!" Старик встал, подошел к
нему и то с одной стороны в лицо заглянет, то с другой. И молчит. Наконец
положил руку на загривок, тряхнул, похлопал, прическу ему пригладил. "Иди",
-- говорит. И все. Боря -- пулей в дверь. А Старик глядит ему вслед.
"Хорошие люди у нас, Донат, а? Не бывает лучше. Но выговор ты ему, подлецу,
напиши. За моей подписью. Он на меня не обидится, а другим наука. Другие-то
могут оказаться невезучими".
- Кстати, это произошло как раз, когда ему нужно было уехать. Я о
Долотове.
- Думаешь, не простое совпадение?
- Трудно сказать. После его сумасшедшего полета машину поставили на
нивелировку, стали снимать двигатели, вот он и освободился. Кажется, это
было в феврале?
- Вроде так. У него ежегодные поездки на восток, наверно, какой-нибудь
дружеский сабантуй, а? Говорили еще, что не то жена, не то теща кому-то в
жилетку плакалась. Ты не видел ее, Борькину жену? Тоненькая, глазки
растопыренные, пальчики прозрачные, когда подает, брать боязно. Чуть что --
в краску. Ей бы белый передничек да в школу, в седьмой класс. Не верится,
что она женщина. Ну да ладно. Твои-то дела как, что с "девяткой"?
- На тренажере все получается.
- И много нового?
- Демпферы рысканья, тангажа, а главное, автомат дополнительных усилий
на штурвале.
- На строгие режимы?
- Да.
- Будешь уточнять, когда и как он должен срабатывать?
- Да у них все подобрано предположительно.
- Человек предполагает, а бог располагает. В экипаже-то знаешь кто?
- Да. Извольский, Козлевич, Карауш?
Гай кивнул. Он не сказал: "Знаешь, кто за Санина?", но каждый раз,
когда он видел чью-либо фамилию в графе "Штурман-испытатель", которого
записывают третьим в полетном листе, ему, как и Лютрову, казалось, что
человек этот занимает место Сергея Санина. Вот и сейчас они вместе вспомнила
об этом и замолчали, глядя, Как заруливает на С-440 посаженный раньше
времени Боровский.
Минуту они наблюдали, как спускается по приставной лестнице
многочисленный экипаж подрулившего самолета.
- А, товарищ Лютров! Приветствую будущего командира! Здорово Леша! Где
пропал?
Это зашел летавший с Боровским Костя Карауш, одетый в серый комбинезон,
на котором было расстегнуто едва ли не все, что возможно расстегнуть, так
что коричневая исподняя рубаха просматривалась до пояса. Защитный шлем он
держал за ремешки, как котелок.
- Гай, чего это нас посадили? Дед собирает? Зачем? Серьезно? -- Костя
присвистнул. -- Ну, отцы-командиры, я вам не завидую. Так просто Дед не
приедет, он вам пыжа воткнет. Мне? А я Чего? Я -- беспартийный.
- Нет, Леша, ты видел эту казанскую сироту?
Главный подъехал к административному корпусу на своем допотопном ЗИЛе,
покойном и прочном, как старое кресло. Он неуклюже вынес из машины тучнеющее
тело, освобожденно выпрямился и оглядел встречающих -- Добротворского,
Данилова и стоящего в стороне от них Иосафа Углина, бывшего ведущего
инженера "семерки", одетого в варварски поношенный селедочно-серый костюм.
Видимо, так и не вспомнив, кто это, Соколов изумленно поверх очков
поглядел на ведущего и ему первому протянул руку.
Главный был стар и по-стариковски суров, однако разговаривал
неожиданным для его вида молодым ироническим баском, обладал цепкой памятью
и неслабеющим трудолюбием. Каждое появление Соколова на базе воспринималось
окружающими как подтверждение принадлежности знаменитого имени живому
человеку, строившему летательные аппараты, когда еще не многим было знакомо
слово "авиация". В день его шестидесятилетия одна солидная газета писала: "В
этом человеке очень ярко воплотился русский инженерный гений, духовная
сущность которого неотделима от подвижнического служения народу, от сыновней
любви к Родине и осознанного долга споспешествовать ее славе". И это было
правдой. Его ум пестовал самолетостроение почти от его истоков до
сверхзвуковых кораблей; о творческой интуиции Главного, академических
знаниях, умении найти лучшее из сотен возможных решении рассказывали в стиле
анекдотов об остроумии Пушкина.
Все это и только это давало ему непререкаемое право управлять работой
одного из крупнейших в стране конструкторских бюро.
Смолоду неказистое, к старости лицо его оплыло глубокими складками;
белые, коротко остриженные волосы не скрывали неправильной формы шишковатую
голову; одряхлевшие, сурово нависшие веки затенили нетерпеливые
глаза-льдинки, всевидящие, всепонимающие. Создавалось впечатление, будто
Старик давно и прочно огрубел, отстранился от живого пульса дней, от
необходимости общаться с окружающими, но как только он начинал говорить,
обманчивое впечатление исчезало мгновенно. Властный низкий голос, то
насмешливый, то пытливый, недвусмысленно выдавал великолепного собеседника,
не терпящего бесед применительно к его возрасту. Все в поведении и одежде
было без позы, без претензий. Носил двубортные пиджаки, сорочки без
галстуков, но застегнутые на все пуговицы, зимой -- дубленое полупальто,
треух, легкие войлочные ботинки. Глядя на него, трудно было поверить, что не
только самолеты, но и КБ, аэродром, подъездные дороги, жилые кварталы фирмы
назывались его именем, хотя никто никакими указами этих названий не
присваивал. Из-за внешней непрезентабельности он легко терялся на людях,
подчас попадая в курьезные истории.
Так рассказывали, что как-то в конце рабочего дня, когда в сборочном
зале завода было нелюдно, Старик рассматривал многощелевые закрылки
поставленного в ангар С-44. На крыле несколько работниц торопились окончить
клейку лоскутов ткани к элеронам. К утру намечалась наземная отработка
управления, а потому работа была срочная. Вид лысого старика в плохоньких
очках вывел из равновесия одну из женщин. Что пришло ей в голову, бог весть.
Скорее всего, как всякая женщина, она чувствовала себя неловко, будучи
обозреваема снизу.
- Что уставился, старый хрен! -- напустилась она на главного. -- Стал и
стоить, будто дело делаить! А ну уматывай!..
Узнавшие главного дергали подругу за халат, перепуганно шептали:
-- Замолчи! Чего мелешь?.. Вот дура...
Это был едва ли не единственный случай, когда на Старика прикрикнули;
ни один человек в здравом уме не решился бы на такое.
Главного легко угадывали по манере отрешенно опускать голову при
ходьбе, закладывать руки за спину и потешно взбрыкивать ногами, когда на
пути попадался камешек. Чем больше он был озадачен, тем дальше зафутболивал
всяческую нечисть из-под ног.
Впервые встречаясь с человеком, он величал его только по
имени-отчеству, однако всем сослуживцам, и новым и знакомым, мужчинам и
женщинам, говорил "ты", и это не выглядело невежливо, никто и не рассчитывал
на иное обращение, настолько естественно было оно для его лет.
Иногда кто-нибудь из молодых инженеров, следуя моде демонстрировать
"широту взглядов", небрежно ронял замечание о старческой немощи главного, о
том, что Старик уже "не тот", а если и продолжает руководить фирмой, то
номинально, гонорис кауза, так сказать, вроде почетного президента. Такие
высказывания в кругу старых работников базы оборачивались для "смельчака"
тем же, чем обернулась попытка забросать грязью Вольтера на известном
рисунке Домье: хулитель оказывался по колено в грязи. "Смельчак" быстро
трезвел, понимая, что сморозил глупость. Одному из таких верхоглядов,
носившему стриженую бороду и читавшему Агату Кристи в подлинниках, Костя
Карауш сказал:
- Никогда и никому, кроме мамы, не доказывай, что ты вундеркинд.
Едва Старик скрылся за двойными дверьми с надписью золотом по
небесно-голубому "Главный конструктор", как в диспетчерской длинно зазвонил
телефон.
- Николай Сергеевич приглашает летный состав.
 Лютров вошел последним, вслед за Витюлькой Извольский. Все старались
сесть подальше, стулья возле большого, как бильярд, стола, где сидел Старик,
исподлобья оглядывая входивших, трусливо пустовали. Лишь и. о. начальника
летного комплекса Нестор Юзефович одиноко восседал одесную начальства, с
подобострастной строгостью оглядывая каждого входящего, словно тот должен
был делать это как-то иначе. Между Гаем и Саетгиреевым, опустив голову и
теребя брелок на связке автомобильных ключей, сидел начальник отдела
испытаний Данилов. Под его пальцами то и дело поблескивал стилизованный под
древнюю монету кружочек металла с чеканной головкой женщины -- работа
грузинских мастеров.
Минуту в большом кабинете, приветливо залитом лучами закатного солнца,
было тихо. Забывшись, Старик чертил что-то на большом листе бумаги, подперев
левой рукой тяжелую голову.
- Все? -- спросил он.
Ему никто не ответил, даже Юзефович; скажешь "все", ан какой-нибудь
подлец и подведет.
Старик переводил глаза с одного лица на другое, покручивая в руках
пестрый карандаш. И неловкое молчание, и причина, ради которой они
собрались, и то, что предстояло услышать, было настолько чуждо человеческой
величине Главного, что Лютрову стало стыдно за глупую амбицию Боровского.
Для Юзефовича подобные истории были вполне в масштабе его личности, он жил
за ними, как за дымовой завесой, чтобы не дать разглядеть подчиненным
собственное ничтожество. И сейчас, как губка, напитывался сдавленной
атмосферой скандала, освященного участием Главного. Одно это сознание, что
Старик, верша прецедент, участвует в привычных Юзефовичу делах, было
невыносимо. Хотелось, чтобы Дед вдруг закричал, обозвал всех последними
словами, чтобы рухнуло подленькое довольство Юзефовича и ему подобных,
развеялось значение происходящего. Старик словно угадал мысли Лютрова.
- Ты! - высокий голос прозвучал как удар гонга.
Карандаш в руках главного нацелился в грудь Гая.
- Что скажешь о катастрофе "семерки"?
- Я?.. - Гай растерянно поднялся, машинально проверил, на месте ли
кроваво-красный галстук. -- Мне... известны выводы аварийной комиссии.
- Мне тоже, -- перебил его Старик. -- Я хочу знать, считаешь ли ты эти
выводы обоснованными.
- У меня нет оснований ставить под сомнение документы комиссии, -- Гай
наконец понял, чего от него хотят.
Старик нетерпеливо махнул рукой, садись, мол, и протянул карандаш в
сторону Вячеслава Чернорая.
- Ты?
- Считаю заключение комиссии вполне убедительным,- мешковатый и
широкоплечий, он переступил с ноги на ногу и сел.
- Ты?
-- А, чего я, умнее других? -- Долотов покосился на "корифея".
- Ты?..Ты?..Ты?..
Последним поднялся Лютров.
-- Под заключением комиссии стоит моя подпись.
Старик кивнул, подводя черту, и замолчал. Заметно было, что в этой
части собеседования он и не ожидая иного результате.
Неопрошенным оставался один Боровский. Главный или не хотел к нему
обращаться, или еще не решил, как за это взяться. Он встал из-за стола,
несколько раз прошелся от угла до угла стены, закинув руки назад и
разглядывая паркет. Пнуть ногой было нечего. Создавалось впечатление, что
только поэтому он стал продвигаться вдоль кабинета. Но, дойдя до Боровского,
остановился.
Тот медленно поднялся, оказавшись на голову выше Старика.
- Ну? Скажи ты, -- тихо произнес главный
Крупное лицо "корифея" в редких рябинах на лбу и плоских щеках стало
серым. Он либо впал в прострацию, либо решил молча принять кару. Юзефович за
спиной Старика укоризненно покачал головой, но скоро застыл под уничтожающим
взглядом Гая.
- Молчишь, сучий сын! -- фальцетом взвизгнул Старик и от волнения
пожевал губами. -- Счастлив твой бог, что молчишь!
Вернувшись в кресло за столом, он некоторое время барабанил пальцами по
стеклу на зеленом сукне.
- Запомните, никто не мог прямо или косвенно способствовать несчастью.
Никто не мог и предвидеть его. Ни вы, ни я. Знаю, более опытный летчик
справился бы. Но это не выход, и я не виню Димова. Когда не удается с
достаточной убедительностью сослаться на несовершенство какой-либо
самолетной системы как на причину катастрофы, причастным и непричастным к
расследованию овладевает соблазн предполагать криминал в действиях летчика;
мертвые сраму не имут и возразить не могут, а техника не терпит
неосведомленности, неосторожных выводов. Человек же для всякого дурака
достаточно изученная и порочная система. Дурак ставит человека на порядок
ниже автоматических устройств, это модно. Если дурак образован, то
обязательно моден. Но посади дурака в полностью автоматизированный самолет в
качестве пассажира, он сбежит из него в салон ЛИ-2, откуда при желании
нетрудно разглядеть человека за штурвалом... Да, специфика аэродинамической
компоновки тяжелых сверхзвуковых машин требует новых решений в цепи
управления: в строгих режимах летчик не может полагаться на свою реакцию. В
сжатых до долей секунды отрезках времени человек не способен мгновенно
перерабатывать получаемую информацию; он, как теперь говорят, всего лишь
одноканальная счетно-решающая система, склонная к ошибкам в отборе и оценке
сигналов. И будь хоть трижды чудо-летчиком, все равно не сможешь определить
поведение самолета своей задницей. Но это не значит, что человек непригоден
больше для управления современными машинами, нужно лишь вовремя
переориентировать его способности. Мы же, конструкторы, не всегда, к
несчастью, достаточно оперативно предугадываем и разрабатываем то, что нужно
дать в помощь летчику... Вот о чем говорит катастрофа "семерки", а не о
слабости Димова и не о пороках испытательской практики. Автоматические
устройства по мере развития авиации должны восполнять то, чего человек лишен
в силу своей природы. Заменить же его удастся, когда соберут дубликат
конструкции мира. Это справка для дураков...
Старик закашлялся и разом сник, изнемогая от удушья. А когда кашель
оставил его, он долго сидел отдуваясь, пузыря щеки.
-- Нам предстоит разработать принципиально новую систему управления...
многократно резервированную, достаточно сложную в коммуникационном
отношении, наконец, конструктивно сложную из-за большого количества
исполнительных устройств для обеспечения безопасности полета. Кроме прочего,
важнейшим критерием качества новой системы управления является величина
запаздывания отклонения рулей по усилиям на органах управления. Думаю, через
месяц, много, полтора, начнем устанавливать на "девятку" новые, более
эффективные демпферы тангажа, затем автомат дополнительных усилий, который
потребует серьезных полетов по доводке. Кто из летчиков назначен на
"девятку"?
- Лютров, -- подсказал Данилов.
Сощурившись, Старик посмотрел на Лютрова и тихо улыбнулся.
- А вторым?
- Вторым Извольский.
- Ты, что ли? -- Старик смотрел на Витюльку, откровенно улыбаясь.
- Я.
- Не боишься, что пришибет?
- Не, он смирный.
В комнате приятно дохнуло весельем. Старик хохотал, пока не закашлялся.
- Вот и все, -- сказал он, пряча платок в карман. -- Все, что касается
"семерки". С-14 -- первая машина с таким весом и такими летными данными.
Первая! Это следует уяснить тем, -- он посмотрел в сторону Боровского,-- кто
пытается давать безответственно субъективные толкования происшедшему
несчастью, -- он минуту помолчал, оглядывая лица летчиков. -- Неужели вы...
могли предположить, что я могу вот так просто простить человеку, хоть в
малой степени виновному в гибели людей? Я приехал не для того, чтобы
наказывать за чванство, спесь и всякое дерьмо. Но мне не безразлично, что вы
думаете обо мне... и как расходуете энергию своих нервов, и, наконец, что
думаете о тех, с кем работаете. А потому предупреждаю: противопоставляющих
интересы собственной персоны интересам дела выгоню за ворота. Надеюсь, в
моих словах нет неясных мест. Вы свободны.
Лютров вошел последним, вслед за Витюлькой Извольский. Все старались
сесть подальше, стулья возле большого, как бильярд, стола, где сидел Старик,
исподлобья оглядывая входивших, трусливо пустовали. Лишь и. о. начальника
летного комплекса Нестор Юзефович одиноко восседал одесную начальства, с
подобострастной строгостью оглядывая каждого входящего, словно тот должен
был делать это как-то иначе. Между Гаем и Саетгиреевым, опустив голову и
теребя брелок на связке автомобильных ключей, сидел начальник отдела
испытаний Данилов. Под его пальцами то и дело поблескивал стилизованный под
древнюю монету кружочек металла с чеканной головкой женщины -- работа
грузинских мастеров.
Минуту в большом кабинете, приветливо залитом лучами закатного солнца,
было тихо. Забывшись, Старик чертил что-то на большом листе бумаги, подперев
левой рукой тяжелую голову.
- Все? -- спросил он.
Ему никто не ответил, даже Юзефович; скажешь "все", ан какой-нибудь
подлец и подведет.
Старик переводил глаза с одного лица на другое, покручивая в руках
пестрый карандаш. И неловкое молчание, и причина, ради которой они
собрались, и то, что предстояло услышать, было настолько чуждо человеческой
величине Главного, что Лютрову стало стыдно за глупую амбицию Боровского.
Для Юзефовича подобные истории были вполне в масштабе его личности, он жил
за ними, как за дымовой завесой, чтобы не дать разглядеть подчиненным
собственное ничтожество. И сейчас, как губка, напитывался сдавленной
атмосферой скандала, освященного участием Главного. Одно это сознание, что
Старик, верша прецедент, участвует в привычных Юзефовичу делах, было
невыносимо. Хотелось, чтобы Дед вдруг закричал, обозвал всех последними
словами, чтобы рухнуло подленькое довольство Юзефовича и ему подобных,
развеялось значение происходящего. Старик словно угадал мысли Лютрова.
- Ты! - высокий голос прозвучал как удар гонга.
Карандаш в руках главного нацелился в грудь Гая.
- Что скажешь о катастрофе "семерки"?
- Я?.. - Гай растерянно поднялся, машинально проверил, на месте ли
кроваво-красный галстук. -- Мне... известны выводы аварийной комиссии.
- Мне тоже, -- перебил его Старик. -- Я хочу знать, считаешь ли ты эти
выводы обоснованными.
- У меня нет оснований ставить под сомнение документы комиссии, -- Гай
наконец понял, чего от него хотят.
Старик нетерпеливо махнул рукой, садись, мол, и протянул карандаш в
сторону Вячеслава Чернорая.
- Ты?
- Считаю заключение комиссии вполне убедительным,- мешковатый и
широкоплечий, он переступил с ноги на ногу и сел.
- Ты?
-- А, чего я, умнее других? -- Долотов покосился на "корифея".
- Ты?..Ты?..Ты?..
Последним поднялся Лютров.
-- Под заключением комиссии стоит моя подпись.
Старик кивнул, подводя черту, и замолчал. Заметно было, что в этой
части собеседования он и не ожидая иного результате.
Неопрошенным оставался один Боровский. Главный или не хотел к нему
обращаться, или еще не решил, как за это взяться. Он встал из-за стола,
несколько раз прошелся от угла до угла стены, закинув руки назад и
разглядывая паркет. Пнуть ногой было нечего. Создавалось впечатление, что
только поэтому он стал продвигаться вдоль кабинета. Но, дойдя до Боровского,
остановился.
Тот медленно поднялся, оказавшись на голову выше Старика.
- Ну? Скажи ты, -- тихо произнес главный
Крупное лицо "корифея" в редких рябинах на лбу и плоских щеках стало
серым. Он либо впал в прострацию, либо решил молча принять кару. Юзефович за
спиной Старика укоризненно покачал головой, но скоро застыл под уничтожающим
взглядом Гая.
- Молчишь, сучий сын! -- фальцетом взвизгнул Старик и от волнения
пожевал губами. -- Счастлив твой бог, что молчишь!
Вернувшись в кресло за столом, он некоторое время барабанил пальцами по
стеклу на зеленом сукне.
- Запомните, никто не мог прямо или косвенно способствовать несчастью.
Никто не мог и предвидеть его. Ни вы, ни я. Знаю, более опытный летчик
справился бы. Но это не выход, и я не виню Димова. Когда не удается с
достаточной убедительностью сослаться на несовершенство какой-либо
самолетной системы как на причину катастрофы, причастным и непричастным к
расследованию овладевает соблазн предполагать криминал в действиях летчика;
мертвые сраму не имут и возразить не могут, а техника не терпит
неосведомленности, неосторожных выводов. Человек же для всякого дурака
достаточно изученная и порочная система. Дурак ставит человека на порядок
ниже автоматических устройств, это модно. Если дурак образован, то
обязательно моден. Но посади дурака в полностью автоматизированный самолет в
качестве пассажира, он сбежит из него в салон ЛИ-2, откуда при желании
нетрудно разглядеть человека за штурвалом... Да, специфика аэродинамической
компоновки тяжелых сверхзвуковых машин требует новых решений в цепи
управления: в строгих режимах летчик не может полагаться на свою реакцию. В
сжатых до долей секунды отрезках времени человек не способен мгновенно
перерабатывать получаемую информацию; он, как теперь говорят, всего лишь
одноканальная счетно-решающая система, склонная к ошибкам в отборе и оценке
сигналов. И будь хоть трижды чудо-летчиком, все равно не сможешь определить
поведение самолета своей задницей. Но это не значит, что человек непригоден
больше для управления современными машинами, нужно лишь вовремя
переориентировать его способности. Мы же, конструкторы, не всегда, к
несчастью, достаточно оперативно предугадываем и разрабатываем то, что нужно
дать в помощь летчику... Вот о чем говорит катастрофа "семерки", а не о
слабости Димова и не о пороках испытательской практики. Автоматические
устройства по мере развития авиации должны восполнять то, чего человек лишен
в силу своей природы. Заменить же его удастся, когда соберут дубликат
конструкции мира. Это справка для дураков...
Старик закашлялся и разом сник, изнемогая от удушья. А когда кашель
оставил его, он долго сидел отдуваясь, пузыря щеки.
-- Нам предстоит разработать принципиально новую систему управления...
многократно резервированную, достаточно сложную в коммуникационном
отношении, наконец, конструктивно сложную из-за большого количества
исполнительных устройств для обеспечения безопасности полета. Кроме прочего,
важнейшим критерием качества новой системы управления является величина
запаздывания отклонения рулей по усилиям на органах управления. Думаю, через
месяц, много, полтора, начнем устанавливать на "девятку" новые, более
эффективные демпферы тангажа, затем автомат дополнительных усилий, который
потребует серьезных полетов по доводке. Кто из летчиков назначен на
"девятку"?
- Лютров, -- подсказал Данилов.
Сощурившись, Старик посмотрел на Лютрова и тихо улыбнулся.
- А вторым?
- Вторым Извольский.
- Ты, что ли? -- Старик смотрел на Витюльку, откровенно улыбаясь.
- Я.
- Не боишься, что пришибет?
- Не, он смирный.
В комнате приятно дохнуло весельем. Старик хохотал, пока не закашлялся.
- Вот и все, -- сказал он, пряча платок в карман. -- Все, что касается
"семерки". С-14 -- первая машина с таким весом и такими летными данными.
Первая! Это следует уяснить тем, -- он посмотрел в сторону Боровского,-- кто
пытается давать безответственно субъективные толкования происшедшему
несчастью, -- он минуту помолчал, оглядывая лица летчиков. -- Неужели вы...
могли предположить, что я могу вот так просто простить человеку, хоть в
малой степени виновному в гибели людей? Я приехал не для того, чтобы
наказывать за чванство, спесь и всякое дерьмо. Но мне не безразлично, что вы
думаете обо мне... и как расходуете энергию своих нервов, и, наконец, что
думаете о тех, с кем работаете. А потому предупреждаю: противопоставляющих
интересы собственной персоны интересам дела выгоню за ворота. Надеюсь, в
моих словах нет неясных мест. Вы свободны.
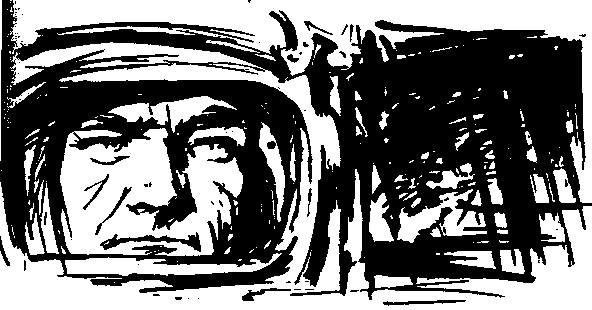 "Не везет человеку, -- подумал Лютров, ког
"Не везет человеку, -- подумал Лютров, ког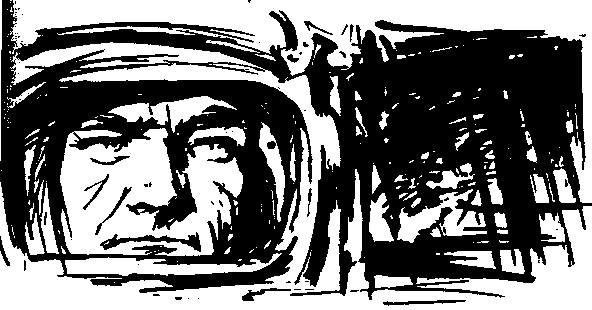 "Не везет человеку, -- подумал Лютров, ког
"Не везет человеку, -- подумал Лютров, ког