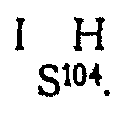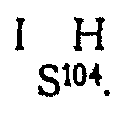Писано жителем города все это время не покидавшим Лондон
Публикуется впервые (Пер. К.Н.Атарова)
Даниэль Дефо. Дневник чумного года
Серия "Литературные памятники"
Издание подготовила К. H. Атарова
М., "Наука", Научно-издательский центр "Ладомир"
(с) К. Н. Атарова. Перевод, статья, примечания, 1997.
OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru
ВОСПОМИНАНИЯ О ЧУМЕ
Было начало сентября 1664 года, когда я, как и мои соседи, узнал из
досужих разговоров, что в Голландию снова вернулась чума; снова - потому что
она уже свирепствовала там, особенно в Амстердаме и Роттердаме в 1663 году;
одни утверждали, что завезли ее туда из Италии, другие - что из Леванта {1}
вместе с товарами, прибывшими на турецких кораблях; еще говаривали, будто
занесли ее не то из Кандии {2}, не то с Кипра. Да не так уж важно, откуда
она появилась; все сходились в одном: чума снова пришла в Голландию.
Газеты в те дни еще не издавались {3}, не то что во времена, до которых
мне довелось дожить, когда газеты сообщают о происшествиях, распространяют
слухи, да еще и дополняют их, опираясь на собственные домыслы. Однако о
таких событиях, как чума, узнавали из писем купцов и других лиц, ведущих
заморскую переписку, а далее передавали изустно, так что подобные вести не
могли мгновенно распространиться по всей стране, как это происходит теперь.
И однако, похоже, правительство было прекрасно осведомлено и предложило даже
некоторые меры, долженствовавшие воспрепятствовать распространению заразы
{4}, но широкой огласке все это не придавало. Так что слухи вновь как-то
заглохли, и мы перестали думать об этом, как о вещах, которые, мы надеялись,
не имели к нам прямого отношения, да и вообще, скорее всего, были выдумкой.
Так и шло до конца ноября или начала декабря 1664 года, пока двое мужчин -
по слухам, французов - не умерло от чумы в Лонг-Эйкре, точнее, в верхнем
конце Друри-Лейн {5}. Семьи, где они проживали, хотели было, по возможности,
скрыть это событие, но слухи о нем вышли наружу и дошли до правительства,
которое, желая разузнать всю правду об этом деле, послало в тот дом двух
докторов и хирурга {6} для расследования. Так что расследование учинили,
обнаружили явные признаки страшной болезни {7} на обоих телах и заявили
публично, что скончались они от чумы. После чего сведения передали
приходскому служке {8}, а он, в свою очередь, сообщил об этом городским
властям, так что сведения, как это обычно бывает, появились в еженедельных
сводках о смертности в следующем виде:
"Чума - 2; зараженных приходов - 1".
Народ сильно встревожило это сообщение. Волнение охватило весь город,
тем более что в последнюю неделю декабря 1664 года еще один скончался в том
же доме и от той же болезни. А потом на шесть недель все затихло, и, когда
за шесть недель никто не умер от той хвори, стали поговаривать, что чума
ушла. Однако 12 февраля еще один человек, теперь в другом доме, но в том же
приходе, скончался при сходных обстоятельствах. Это заставило обратить
внимание на окраины города, и, когда обнаружилось, что в приходе Сент-Джайлс
{9} еженедельные сводки указывают на резкое увеличение числа погребений,
стали поговаривать, что чума посетила эту часть Лондона и что многие уже
умерли от нее, только обстоятельство это тщательно скрывалось и не
предавалось широкой огласке. Это напугало людей, и теперь без крайней нужды
никто не решался идти через Друри-Лейн или другие улицы, находившиеся под
подозрением.
А увеличение смертности было следующим: обычно еженедельное число
похорон в приходах Сент-Джайлс-ин-де-Филдс и Сент-Эндрюс (Холборн) {10} было
от двенадцати до семнадцати-девятнадцати человек в каждом приходе, немногим
больше или немногим меньше. Но с тех пор, как первые случаи чумы
приключились в приходе Сент-Джайлс, обычное число похорон значительно
возросло {11}. Например:
С 27 декабря по 3 января Сент-Джайлс - 16
Сент-Эндрюс - 17
С 3 января по 10 января Сент-Джайлс - 12
Сент-Эндрюс - 25
С 10 января по 17 января Сент-Джайлс - 18
Сент-Эндрюс - 18
С 17 января по 24 января Сент-Джайлс - 23
Сент-Эндрюс - 16
С 24 января по 31 января Сент-Джайлс - 24
Сент-Эндрюс - 15
С 30 января по 7 февраля Сент-Джайлс - 21
Сент-Эндрюс - 23
С 7 февраля по 14 февраля Сент-Джайлс - 24
(из которых один
умер от чумы).
Подобный же рост смертности наблюдался в приходе Сент-Брайдс {12},
прилегающем с одной стороны к Холборнскому приходу, и в приходе Сент-Джеймс
(Кларкенуэлл) {13}, прилегающем к Холборну с противоположной стороны: в
обоих названных приходах средняя недельная смертность была от четырех до
шести - восьми человек, тогда как теперь она возросла следующим образом:
С 20 декабря по 27 декабря Сент-Брайдс - 1
Сент-Джеймс - 8
С 27 декабря по 3 января Сент-Брайдс - 6
Сент-Джеймс - 9
С 3 января по 10 января Сент-Брайдс - 11
Сент-Джеймс - 7
С 10 января по 17 января Сент-Брайдс - 12
Сент-Джеймс - 9
С 17 января по 24 января Сент-Брайдс - 9
Сент-Джеймс - 15
С 24 января по 31 января Сент-Брайдс - 8
Сент-Джеймс - 12
С 31 января по 7 февраля Сент-Брайдс - 13
Сент-Джеймс - 5
С 7 февраля по 14 февраля Сент-Брайдс - 12
Сент-Джеймс - 6
Народ с тревогой замечал, что цифры в еженедельных сводках все растут,
тогда как обычно в это время года смертность не особенно велика.
Как правило, общее еженедельное число смертей по сводкам было около
240-300. Последняя цифра считалась очень большой, однако теперь мы
обнаружили, что цифры все ползут вверх следующим образом:
Похоронено Увеличение
С 20 по 27 декабря 291 -
С 27 декабря по 3 января 349 58
С 3 января по 10 января 394 45
С 10 января по 17 января 415 21
С 17 января по 24 января 474 59
Последняя сводка была поистине пугающей - число превышало недельную
смертность в прошлый чумной мор 1656 года {14}.
Однако все снова начало утихать. Погода с декабря и до конца февраля
стояла холодная, морозная, с резкими, хотя и не чрезмерными, порывами ветра,
- и цифры в сводках начали уменьшаться. Климат был теперь здоровее, и все
стали надеяться, что опасность миновала; только в Сент-Джайлсе все еще
держалась высокая смертность, особенно в начале апреля; по 25 человек
еженедельно, а с 18-го по 25-е там схоронили 30 человек, в том числе двоих,
скончавшихся от чумы, и восьмерых - от сыпного тифа, который по признакам
тоже походил на чуму; общая смертность от сыпного тифа также возросла с
восьми человек на прошедшей неделе до двенадцати.
Это снова всех нас встревожило; люди ожидали страшных событий, особенно
в преддверии летнего тепла, которое было уже не за горами. Однако на
следующей неделе вновь забрезжила надежда. Смертность упала - как показали
сводки, - общее число умерших составило всего 388 человек, и среди них никто
не умер от чумы и лишь четверо от сыпного тифа.
Но на следующей неделе все возобновилось, да к тому же болезнь
распространилась на два-три других прихода, а именно: Сент-Эндрюс (Холборн),
Сент-Клемент-Дейнз {15} и, к великому огорчению жителей Сити, один человек
умер внутри городских стен {16}, в приходе Сент-Мэри-Вулчерч {17} на
Бербиндер-Лейн, около Стокс-Маркета; в общей сложности девять человек умерло
от чумы и шесть от сыпного тифа. После расследования выяснилось, что
француз, скончавшийся на Бербиндер-Лейн, был соседом тех двух французов, что
умерли в Лонг-Эйкре; он переселился на Бербиндер-Лейн, спасаясь от заразы и
не подозревая, что оная уже угнездилась в нем.
Было начало мая, однако погода стояла умеренная - прохладная,
переменчивая, и у людей еще оставались надежды. Их подбадривало, что
атмосфера Сити была здоровая: во всех 97 приходах от чумы умерло всего 54
человека, и, так как в большинстве своем это были люди, жившие ближе к
окраинам, мы стали верить, что чума и не распространится далее; тем паче что
на следующей неделе, то есть между 9 и 16 мая, умерло только трое, и ни один
из них не жил в Сити или прилегающих к нему слободах; {18} в Сент-Эндрюсе
похоронили 14 человек - тоже низкая цифра. Правда, в Сент-Джайлсе умерло 32
человека, но так как среди них лишь один от чумы, люди начали успокаиваться.
Да и общая цифра в сводке была невелика, если сравнить ее с прошлой и
позапрошлой неделями, когда умерли 347 и 343 человека. В этих надеждах
пребывали мы всего несколько дней, потому что люди теперь стали не так
доверчивы: начали осматривать дома, и оказалось, что чума распространяется
во всех направлениях и что еженедельно от нее умирает немало народу. Теперь
уж все наши преуменьшения были отброшены, и скрывать что-либо стало трудно;
напротив того, быстро обнаружилось, что зараза распространяется, несмотря на
все наши стремления преуменьшить опасность; что в приходе Сент-Джайлс
болезнь охватила несколько улиц; и сколько-то семей - все больные -
собрались вместе в одном помещении; соответственно и в сводке следующей
недели все это отразилось. Там значилось только 14 человек, погибших от
чумы, но все это было мошенничеством и тайным сговором; ведь в приходе
Сент-Джайлс умерло 40 человек, и, хотя причиной смерти были указаны другие
болезни, все знали, что большинство жертв унесла чума. Так что, несмотря на
то, что общее число похорон не превысило 32, а в общей сводке значилось
только 385, в том числе 14 от сыпного тифа и 14 от чумы, все мы были
убеждены, что в целом за неделю от чумы умерло не менее полусотни.
На следующей неделе, между 23 и 30 мая, сообщалось о 17 смертях от
чумы. Но в Сент-Джайлсе похоронили 53 человека - чудовищная цифра! - из
которых, как утверждалось, только 9 умерло от чумы. Однако при строгом
расследовании, учиненном мировым судьей {19} по просьбе лорд-мэра {20},
обнаружилось, что еще 20 умерло от чумы в этом приходе, но были записаны как
умершие от сыпного тифа и других болезней, не говоря уж о тех, кто вообще
остался не зарегистрированным.
Но все это были пустяки по сравнению с тем, что началось позднее, ведь
погода теперь установилась жаркая, и с первой половины июня зараза стала
распространяться с ужасающей быстротой, так что число умерших в сводках
резко подскочило. Увеличилось и количество умерших от лихорадки, сыпного
тифа и других болезней, потому что семьи с больными старались скрыть причину
болезни, чтобы не пугать соседей, отказывавшихся с ними общаться, и чтобы
власти не вздумали запирать дома - мера, которой угрожали, хотя пока ее не
применяли, и которой все очень боялись.
На второй неделе июня Сент-Джайлский приход оставался главным очагом
заразы. В нем было похоронено 120 человек, и, хотя утверждалось, что из них
от чумы умерло 68, все говорили, исходя из смертности в период до поветрия,
что настоящая цифра составляет не меньше сотни.
До той недели в Сити все было спокойно: ни один человек во всех 97
приходах не умер от чумы, за исключением француза, о котором упоминалось
выше. Теперь же умерло четверо в пределах городских стен: один на Вуд-стрит
{21}, один - на Фенчерч-стрит {22} и двое на Крукт-Лейн {23}. В Саутуэрке
{24} все было спокойно: пока ни одного заболевшего по ту сторону реки не
было.
Я жил за Олдгейт - примерно на полдороге между Олдгейт-Черч и
Уайтчепл-Барз {25}, на левой, то есть северной, стороне улицы; и, так как
зараза не достигла этой части города, наша округа жила довольно спокойно. Но
в другом конце города страх был велик, так что люди побогаче, а особенно
знать и дворянство, жившие в западной части, потянулись из Лондона вместе с
чадами и домочадцами. Это было особенно заметно на Уайтчепле: рядом с
Бродстрит {26}, где я жил, все заполонили фургоны и телеги со всяким
скарбом, а в них женщины, дети, слуги и прочее; потом кареты, где
разместились те, что почище; их сопровождали мужчины на лошадях. И все
торопились вон из города. Затем появились пустые фургоны, телеги, лошади без
седоков и слуги, которые возвращались в город за очередными отъезжающими;
особенно много было мужчин, путешествующих верхом, некоторые в одиночку,
другие в сопровождении слуг, но почти все, сколько можно было судить со
стороны, с багажом для дальней дороги.
То было ужасное, гнетущее зрелище, а так как я был принужден смотреть
на него с утра и до вечера из окна (потому что ничего другого за этой толпой
не было видно), я предался мрачнейшим размышлениям о грядущих несчастьях,
ожидающих город, и о незавидном положении тех, кто в нем останется.
Это бегство продолжалось несколько недель кряду; лишь с огромными
трудностями можно было в то время достучаться до лорд-мэра - подход к его
дому заполонили целые толпы желающих получить пропуск и удостоверение о
состоянии здоровья {27} для поездки за границу, без которых нельзя было
проехать через города, лежащие по дороге, и тем более остановиться в
гостинице. Так как на данный момент в Сити никто еще не умер от чумы,
лорд-мэр свободно раздавал удостоверения о здоровье всем, проживающим в 97
приходах, а в течение первого времени - и жителям слобод.
Так вот, это лихорадочное бегство длились несколько недель, точнее,
весь май и июнь, и усугублялось оно еще слухами, что правительство
собирается установить на дорогах заставы и кордоны, дабы воспрепятствовать
людям, отправляющимся путешествовать, а также, что города, лежащие близ
дороги, не будут разрешать жителям Лондона в них останавливаться из страха,
что они занесут заразу. Однако в то время все эти слухи были чистейшей
выдумкой.
Теперь я стал серьезнее обдумывать собственное положение и как мне
лучше поступить, а именно: оставаться в Лондоне или запереть дом и спасаться
бегством, подобно многим моим соседям. Я останавливаюсь на этом с такой
подробностью потому, что, может статься, те, кто будет жить после меня,
столкнутся с подобной бедой и им тоже придется делать выбор; вот я и хотел
бы, чтоб мой рассказ был для них указанием, как надо действовать; а сама по
себе история моя гроша ломаного не стоит, и незачем было бы привлекать к ней
внимание.
Я должен был сообразоваться с двумя важными обстоятельствами: с одной
стороны, надлежало продолжать вести свое дело и торговлю, довольно
значительные, - ведь в них вложено было все мое состояние; с другой стороны,
следовало подумать о спасении собственной жизни перед лицом великого
бедствия, которое, как я понимал, очевидно надвигалось на весь город и, как
бы ни были велики мои страхи и страхи моих соседей, могло оказаться ужаснее
всех возможных ожиданий.
Первое соображение было для меня очень существенным; торговал я шорными
товарами, и не столько в лавке или по случаю, а все больше с купцами,
вывозившими товары в английские колонии в Америке; {28} таким образом, мой
доход в значительной степени зависел от них. Правда, я был холост, но при
мне жили слуги, которые помогали мне в моем деле; да еще дом, лавка и
склады, набитые товаром; короче, оставить все его, как пришлось бы оставить
в данном случае (то есть без присмотра и без человека, на которого можно
было бы положиться), означало не только прекратить торговлю, но и рискнуть
самими товарами, а это все, что у меня было.
В то время в Лондоне жил мой старший брат, незадолго до того
вернувшийся из Португалии; посоветовавшись с ним, я получил ответ, состоящий
из трех слов, точно такой же, как был дан в совсем ином случае, а именно:
"Спаси Себя Самого!" {29} Короче, он был за мой отъезд из города; именно так
собирался он и сам поступить вместе со своим семейством. За границей, сказал
ом, есть поговорка: лучшее лекарство против чумы - бежать от нее подальше.
Что же до моих возражений, что я прекращу торговлю, потеряю товар, залезу в
долги, - он показал мне их полную неосновательность, при этом пользуясь моим
же доводом - упованием на милость Божию: не лучше ли, уповая на Бога,
рискнуть своими товарами, чем оставаться в таком опасности и, уповая на
Бога, рисковать собственной жизнью?
Не мог я сослаться и на то, что мне некуда ехать: у меня были друзья и
родственники в Нортгемптоншире {30}, откуда была родом наша семья; и главное
- у меня была единственная моя сестра в Линкольншире {31}, которой очень
хотелось, чтобы я приехал погостить у нее.
Брат - он уже отправил жену и двоих детей в Бедфордшир {32} и собирался
сам последовать за ними - очень уговаривал меня уехать, и я уж было решился
подчиниться его желанию; но в тот момент не смог раздобыть лошадь, потому
что похоже было, что все лошади покинули город, хотя о людях этого никак
нельзя было сказать, и в течение нескольких недель в городе невозможно было
купить или нанять ни одной клячи. Тогда я решил путешествовать пешком, с
одним слугою, и, как многие в то время, не останавливаться в гостиницах, а
ночевать в солдатской палатке, прямо в поле, благо погода стояла теплая и
нечего было опасаться простуды. Я сказал "многие", потому что так
действительно поступали нередко, особенно те, кто принимали участие в
недавней войне; {33} и должен заметить, что, если бы большинство
путешествующих поступало именно так, чуму не занесли бы в такое количество
городков и деревенских домов {34} множеству людей на погибель.
Но тут мой слуга, которого я собирался с собой прихватить, надул меня;
напуганный все растущей опасностью и не зная толком о моих планах, он сам
принял меры и покинул меня, так что мне пришлось и на этот раз отложить
отъезд; потом же, так или иначе, мой отъезд каждый раз откладывался
благодаря какому-нибудь непредвиденному обстоятельству; все эти подробности
я сообщаю, лишь чтобы показать, что эти задержки были посланы Небом; а не то
все это были бы никому не нужные отступления.
Упоминаю я об этом еще и потому, что, по-моему, для каждого это самый
лучший способ принимать решение, особенно если человек обладает чувством
долга и ждет какого-либо указания, как себя вести; в таком случае он должен
внимательно приглядываться к знакам или знамениям, которые приходятся на это
время, и смотреть, как они соотносятся друг с другом и как, вместе взятые,
соотносятся со стоящей перед ним дилеммой; а потом, думаю, он может уверенно
рассматривать их как указания свыше относительно того, что является его
истинным долгом в данных обстоятельствах - я хочу сказать, уезжать или
оставаться, когда твое место жительства посетила заразная болезнь.
И однажды утром, когда я в очередной раз размышлял обо всем этом, мне
вдруг пришла в голову совершенно ясная мысль: если то, что случается с нами,
происходит лишь по воле Божией, значит, и все мои неурядицы неспроста; {35}
и мне стоит обдумать, не является ли это указанием свыше и не показывает ли
совершенно ясно, что Небу угодно, чтобы я никуда не уезжал. И вслед за тем я
тут же понял, что, ежели Богу действительно угодно, чтобы я остался, то в
Его воле уберечь меня среди свирепствующих вокруг опасностей и смерти; и,
ежели я попытаюсь укрыться и спастись, убежав из своего жилища и поступая
наперекор указаниям, которые, как я убежден, исходят свыше, это будет все
равно, что пытаться скрыться от Бога, и в Его власти будет наказать меня,
когда и где будет Ему благоугодно.
Эти мысли заставили меня изменить решение, и когда я пришел опять к
брату, то сказал, что намерен остаться и ждать своей участи там, где Богу
угодно было поставить меня, и что в этом-то и состоит мой долг, как мне
представляется в свете всего вышесказанного.
Мой брат, хотя и весьма набожный человек, высмеял все мои предположения
об указаниях свыше и рассказал несколько историй о таких же, как он
выразился, "сорвиголовах", как и я; он сказал, что будь я неспособен к
передвижению из-за немощи или недуга, тогда должен я был бы принять это как
волю Всевышнего и подчиниться Его указаниям, так как Он, будучи моим
творцом, имеет безусловное право располагать мною. Тогда можно было бы без
труда понять, что является указанием свыше, а что нет. Но смешно считать
указанием свыше, запрещающим мне отъезд, тот факт, что я не могу нанять
лошадь или что мой слуга, с которым я собирался отправиться в путь, сбежал.
Ведь я в полном здравии, у меня есть другие слуги, и я с легкостью могу
пропутешествовать день-другой пешком, да и с моим великолепным
удостоверением о состоянии здоровья вполне способен нанять лошадь или карету
в дороге, если захочу.
Он продолжал далее и рассказал о пагубных последствиях, проистекающих
из самонадеянности турок и прочих магометан в Азии и других местах, где он
побывал (ведь мой брат, будучи купцом, только несколько лет назад, как я уже
говорил, вернулся из-за границы, а именно из Лиссабона), о том, как,
полагаясь на божественное предопределение, на то, что срок каждого человека
предрешен и нерушимо установлен еще до его рождения, они, не предохраняясь,
входили в зараженные дома, беседовали с больными и, вследствие этого, мерли
по десять-пятнадцать тысяч в неделю, тогда как купцы из Европы, то есть
христиане, державшиеся обособленно, в целом избегали заразы.
Эти доводы брата вновь изменили мое решение: я вознамерился ехать и
сделал соответствующие приготовления, потому что зараза распространялась,
сводки насчитывали почти семьсот человек в неделю, и брат сказал, что он не
решается медлить долее; а так как я уже все приготовил, уладил, как мог,
свои дела и договорился, кому я все оставляю, то мне действительно
оставалось только одно - принять решение.
С тяжелым сердцем вернулся я домой в тот вечер - растерянный, не
знающий, на что решиться. Весь вечер посвятил я серьезным размышлениям;
сидел в полном одиночестве, потому что горожане, по общему соглашению, взяли
привычку не выходить из дому после наступления сумерек; о причинах такого
решения у меня будет случай рассказать позднее.
В уединении этого вечера надеялся я прежде всего понять, в чем состоит
мой долг; я начал с доводов моего брата, при помощи которых он пытался
убедить меня покинуть Лондон; им я противопоставил свое сильнейшее
интуитивное желание остаться {36}, законную заботу о сохранении своего
имущества, которое, можно сказать, составляло все мое достояние,
неслучайные, как мне казалось, недоразумения, связанные с готовящимся
отъездом, и, наконец, те указания, которые я считал ниспосланными свыше и
которые означали для меня призыв рискнуть и остаться; и тут мне пришло в
голову, что, если я получил указание остаться, я вправе допустить, что оно
содержит и обещание сохранить мне жизнь, если я ему последую.
Это запало мне в душу; умом я более, чем когда-либо, склонен был
остаться, воодушевляемый тайным упованием, что буду спасен. Добавьте к
этому, что, склонившись над Библией, которая лежала передо мной, и
сосредоточившись всецело на мучившем меня вопросе, я воскликнул:
- Увы, не знаю я, что мне делать! Господи, направь меня!
И далее в том же духе. В этот момент я перестал листать книгу на 90-м
псалме {37} и, опустив глаза на второй стих, прочел все подряд до седьмого,
а потом до десятого стиха:
"Говорит Господу: "и прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!"
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы;
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение - истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: "Господь упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем
твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему" - и т.
д.
Нужно ли говорить читателю, что с этого момента я решился остаться в
городе, и, вручив себя полностью благости и покровительству Всевышнего, не
искать более никакого иного укрытия? Ведь, поскольку в Его руке были дни мои
{38}, Он мог так же сохранить мне жизнь во время мора, как и в любое другое
время, а если я не заслужил спасения, то все равно я пребывал в Его руке и
должен был положиться на милость Его.
С этим решением улегся я спать и еще более укрепился в нем на следующий
день, когда заболела женщина, на которую собирался я оставить дом и все свои
дела.
Но было и еще одно принудительное обстоятельство: на следующий день я
сам почувствовал себя нездоровым, так что, если бы я и захотел уехать, то не
смог бы; я проболел три-четыре дня, и это окончательно определило, что я
остаюсь. Так что я попрощался с братом, который уехал в Доркинг в Сарри
{39}, а оттуда собирался перебраться в Бакингемшир {40} или в Бедфордшир,
где нашла пристанище его семья.
Все это вместе взятое совсем отвлекло меня от мыслей уехать из Лондона.
Да и брата моего уже не было рядом, так что мне теперь не нужно было ни с
ним, ни с самим собой обсуждать этот вопрос.
Теперь, в середине июля, чума, которая свирепствовала, как я уже
говорил, на противоположной окраине города: в приходах Сент-Джайлс,
Сент-Эндрюс (Холборн) и в районе Вестминстера {41}, начала двигаться на
восток, к той части города, где жил я. Было замечено, что распространяется
она, однако, не прямо на нас, так как Сити - то есть территория, окруженная
стенами, - оставался совершенно незатронутым. Не добралась она по воде и до
Саутуэрка. Ведь, хотя общее число смертей от всех болезней за прошедшую
неделю составило 1268 человек, из которых, судя по всему, от чумы умерло 900
{42}, то в стенах Сити в общей сложности умерло 28 человек и около 19
человек в Саутуэрке, включая и Ламбетский приход; {43} тогда как в это же
время только в приходах Сент-Джайлс и Сент-Мартин-ин-де-Филдс {44} умер 421
человек.
Но мы понимали, что болезнь особенно свирепствует на окраинах - более
густонаселенных, более бедных, так что болезнь там находит больше жертв, чем
в Сити, о чем я еще буду иметь случай сказать подробнее. Понимали мы и то,
как я уже говорил, что болезнь движется в нашем направлении, а именно: через
приходы Кларкенуэлл, Крипплгейт {45}, Шордич {46} и Бишопсгейт; {47}
последних двух приходов, граничащих с Олдгейтом, Уайтчеплом и Степни {48},
зараза достигла позднее, но зато уж и свирепствовала там с особенной силой,
даже когда в западных приходах, с которых болезнь, собственно, и началась,
она стала утихать.
Странно было видеть, что в ту самую неделю, между 4 и 14 июля, когда,
как я уже сказал, в двух приходах - Сент-Мартин и Сент-Джайлс-ин-де-Филдс -
умерло от чумы более 400 человек, в приходе Олдгейт умерло всего четверо, в
приходе Уайтчепл - трое, а в приходе Степни - только один человек.
То же повторилось и на следующей неделе, с 11 по 18 июля, когда по
общей недельной сводке умерло 1761 человек, - на всей Саутуэркской стороне
реки от чумы погибло не более шестнадцати.
Но такое положение вещей вскоре изменилось. Особенно участились смерти
в Крипплгейте и Кларкенуэлле; так, за вторую неделю августа в одном
Крипплгейте похоронили 886 человек, а в Кларкенуэлле - 155. Из них в первом
не менее 850 умерло от чумы, а во втором - 145.
Весь июль, пока наша часть города жила, как я уже говорил, в
относительной безопасности по сравнению с западными приходами, я свободно
ходил по улицам, когда того требовали дела, и обязательно ежедневно или раз
в два дня заходил в Сити, в дом моего брата, который он оставил на мое
попечение, чтобы удостовериться, что там все в порядке. У меня был ключ, и
обычно я заходил внутрь и обходил все комнаты, проверяя, все ли в целости;
потому что, как ни невероятно звучит, что люди способны душевно огрубеть
настолько, чтобы грабить и воровать, пользуясь общим бедствием, однако
всякого рода злодейства, беспутства и дебоши столь же открыто совершались в
городе, - не скажу "столь же часто", ибо число людей сильно поубавилось.
Но теперь и в Сити - я хочу сказать, внутри городских стен - отмечались
случаи болезни; число людей там значительно уменьшилось, так как множество
народу покинуло город; продолжали уезжать и в течение июля, хотя меньше, чем
раньше. А в августе бегство достигло таких масштабов, что мне стало
казаться, будто в Сити останутся только магистрат да слуги.
Теперь все бежали из столицы; двор же, должен сказать, покинул ее еще
раньше, а именно в июне, и переместился в Оксфорд {49}, где Богу угодно было
уберечь всех придворных от заразы; как я слыхал, ни один волос не упал с их
голов, однако они и не подумали выказать хоть малейшие признаки
благодарности и раскаяния, хотя знали, что именно их вопиющие грехи могли
столь безжалостно навлечь жестокое наказание на весь народ {50}.
Облик города теперь до странности изменился: я имею в виду здания в
целом, Сити и прилегающие к нему территории, пригороды, Вестминстер,
Саутуэрк и прочее; хотя именно Сити - то есть то, что находилось внутри
городских стен, - не был еще сильно заражен. Но в целом, повторяю, облик
города сильно изменился: грусть и печаль читались у всех на лицах, и хотя
некоторые районы города еще не были затронуты, все выглядели глубоко
встревоженными; и так как все мы видели, что зараза приближается, каждый
считал себя и свою семью в величайшей опасности. Если бы только возможно
было точно изобразить то время для тех, кто не пережил его, и дать читателю
правильное представление об ужасе, обуявшем горожан, это и теперь произвело
бы глубокое впечатление и исполнило людей удивлением и трепетом. Можно без
преувеличения сказать, что весь Лондон был в слезах; плакальщицы не кружили
по улицам {51}, никто не носил траур и не шил специальных одежд, даже чтобы
почтить память самых близких усопших, но плач стоял повсюду. Вопли женщин и
детей у окон и дверей жилищ, где умирали, или, быть может, только что умерли
их ближайшие родственники, разносились столь часто, стоило только выйти на
улицу, что надорвалось бы и самое твердокаменное сердце. Плач и причитания
раздавались почти в каждом доме, особенно в начале мора, потому что позднее
сердца ожесточились, так как смерть была постоянно у всех пред глазами, и
люди утратили способность сокрушаться потерей близких и друзей, ежечасно
ожидая, что их самих постигает та же участь.
Иногда дела заставляли меня идти на другой конец города, хотя там и был
главный рассадник заразы; странно было мне - да и каждому на моем месте -
видеть, сколь безлюдны улицы, некогда такие оживленные: ведь если б сейчас
там заплутался человек, он вполне мог пройти всю улицу (точнее, переулок),
не повстречав никого, кто указал бы дорогу, если не считать сторожей
запертых домов, о которых я сейчас расскажу.
Однажды, когда я зашел по делам в эту часть города, любопытство
подстрекнуло меня повнимательнее ко всему присмотреться, и я прошел лишку,
куда мне и не нужно было - вверх по Холборну; улицы были там полны народу,
однако люди шли прямо по середине мостовой, потому, полагаю, что не хотели
приближаться к выходящим из домов или пропитываться зловонными запахами
домов, быть может, несущими заразу.
Все Судебные инны {52} были закрыты, и почти не осталось адвокатов ни в
Темпле {53}, ни в Линкольнз-инн {54}, ни в Грейз-инн {55}. Все было
спокойно, никто не затевал тяжб и не нуждался в адвокатах, да и время стояло
каникулярное, так что все они уехали за город. Местами целые ряды домов
стояли запертыми; их владельцы бежали из города, оставив все на одного-двух
сторожей.
Когда я говорю о целых рядах запертых домов, то вовсе не имею в виду,
что они были заперты по распоряжению магистрата; просто множество народу
уехало вслед за двором по долгу службы; другие же покинули город из страха
заразиться, так что некоторые улицы стали совсем заброшенными. Но испуг у
жителей Сити был не так уж силен; это был отвлеченный страх, если можно так
сказать, и, скорее всего, именно потому, что вначале народ обуял прямо-таки
неописуемый ужас; однако, как я говорил, первое время болезнь довольно часто
затухала; люди начинали тревожиться, а потом вновь успокаивались; и так
несколько раз кряду, пока все не привыкли настолько, что, даже когда
разгорелась сильнейшая вспышка, так как она не сразу распространилась на
Сити, восточные и южные районы города, люди начали помаленьку храбриться и,
я бы сказал, черстветь. Правда, как я уже говорил, много народу уехало, но
то были в большинстве своем жители западных окраин и принадлежали они к
"цвету общества", то есть к среде зажиточных людей, не связанных с торговлей
и деловым миром. Остальные же по большей части остались и ожидали худшего;
таким образом, в районах, примыкающих к Сити, в пригородах, Саутуэрке и в
восточной части - Уоппинге {56}, Рэтклиффе {57}, Степни, Роттерхитте {58} -
люди в основном не тронулись с места, если не считать немногих богатых
семей, которые, как я уже говорил, не были связаны делами.
Не следует забывать, что Сити и пригороды были значительно перенаселены
ко времени этого мора {59}, то есть к моменту его начала (хоть я и дожил до
времен еще большей населенности {60}, когда в Лондон стало стекаться больше
народа, чем когда-либо): ведь с окончанием войн, роспуском армий,
реставрацией монархии {61} количество людей, обосновавшихся в Лондоне, чтобы
открыть собственное дело, либо обслуживать двор, либо посещать его в надежде
получить награду, отличие и тому подобное, было таково, что город насчитывал
более ста тысяч жителей (этого в прежние времена никогда не было); да что
там, многие удваивали эту цифру, так как семьи всех разорившихся
приверженцев королевского дома переселились в Лондон. Бывшие солдаты
открывали там торговлю, и множество семей осело в городе. Придворные вновь
возродили блеск и моду. Все веселились и роскошествовали; ликование
Реставрации привлекло в Лондон массу семей.
Я часто думал, что, подобно тому, как Иерусалим был осажден римлянами,
когда евреи собрались отпраздновать свою Пасху, в результате чего
неслыханная масса людей была застигнута врасплох из тех, кто в другое время
не был бы в городе, - так и чума пришла в Лондон, когда там случился
небывалый наплыв людей из-за указанных выше обстоятельств. Такое стечение
народа вокруг молодого, веселого двора повлекло за собой оживление торговли,
особенно предметами роскоши и модными товарами; в результате увеличилось
число рабочих, ремесленников и прочих, - по большей части бедного люда,
зарабатывающего на хлеб собственными руками. Помню, например, что, когда
докладывали лорд-мэру о положении бедняков {62}, сообщалось, что не менее
ста тысяч плетельщиков лент живут в Лондоне и его окрестностях, более всего
в пригородах Шордич, Степни, Уайтчепл и Бишопсгейт, то есть в районе
Спитлфилдса {63} (а надо учесть, что в те времена он был раз в пять меньше,
чем сейчас).
По этим примерам можно судить о населении в целом, и, по правде говоря,
я частенько удивлялся, какое огромное число людей все же осталось после
массового бегства из Лондона.
Но я должен вернуться назад, к началу этих удивительных событий {64}.
Когда страхи только еще зарождались, их сильно подогрели несколько странных
происшествий, которые, если бы их сопоставили и собрали воедино, весьма
вероятно, могли бы подстрекнуть все население города подняться как один и
покинуть свои жилища, оставляя город как место, самим Богом предуготованное
стать "землей крови" {65}, осужденное быть стертым с лица земли вместе со
всем, что будет там находиться в тот момент. Назову только некоторые из этих
событий; но их было так много и столько провидцев и предсказателей указывало
на них, что я часто дивился, как вообще хоть кто-то (особенно женщины)
отважился остаться в городе.
Во-первых, пылающая звезда, или комета {66}, появилась за несколько
месяцев до чумы, как появилась через два года другая - незадолго до пожара
{67}. Старухи, а также флегматичные ипохондрики {68} мужского пола, которые
ничем не лучше старух, отмечали (однако позднее, когда и то и другое событие
были уже позади), что обе эти кометы прошли над домами так низко, что
несомненно это был какой-то знак именно для жителей города; и что комета,
предшествовавшая чуме, была бледновато-розового цвета, еле горящая, движение
ее неторопливое, торжественное и замедленное, в то время как комета,
предвещавшая пожар, была яркой {69}, искристой или, как некоторые говорили,
пылающей; движение ее - быстрое и вихревое; и что, соответственно, одна
предвещала тяжелое испытание, неспешное, но суровое, ужасное, пугающее,
каким и оказалась чума; другая же предрекала удар внезапный, быстрый и
яростный, как пожар. Да что там, некоторые рассказывали о кометах в таких
подробностях, что про комету, предшествующую пожару, утверждали, будто можно
было не только видеть ее быстрый и бурный полет, но и слышать оглушительно
громкий, яростно-устрашающий звук, хотя на деле ничего подобного не было
слышно.
Я видел обе кометы и должен признаться, что, согласно общему
представлению о значении подобных явлений, склонен был смотреть на них как
на предупреждение и предвестие Божьей кары; особенно когда, после того как
чума последовала за первой, я увидел вторую комету, - тут уж мне оставалось
только сказать, что Господь еще недостаточно покарал город.
Но в то же время, в отличие от многих других, я не придавал этим вещам
решающего значения, так как знал и о естественных причинах, которыми
объясняют астрономы подобные явления {70}, и что их движение и направление
вычислены (или считается, что вычислены), так что нельзя их назвать в полной
мере предшественниками или провозвестниками, а уж тем более причиной таких
событий, как чума, война, пожар и прочее.
Но каковы бы ни были мои собственные мысли или мысли философов,
подобные явления оказывали исключительное воздействие на сознание простых
людей; все находились в самом мрачном ожидании грядущих бедствий и кары,
надвигающейся на город; и причиной тому было появление этих комет, а также
гибель в декабре, в приходе Сент-Джайлс, двух людей, о чем я рассказывал
выше.
Тревоги людей до странности усугублялись заблуждениями того времени;
мне представляется, люди тогда (почему - сам не знаю) были более склонны
верить пророчествам, астрологическим расчетам, снам, ведьминским сказкам,
чем когда-либо до или после. Не знаю, развилось ли это плачевное настроение
в результате безумств тех людей, которые наживались на нем - я хочу сказать,
наживались, публикуя всякого рода прогнозы и предсказания; {71} но твердо
можно было утверждать: люди были страшно напуганы такими изданиями, как
"Альманах Лилли" {72}, "Астрологические предсказания Гэдбери" {73}, альманах
"Бедный Робин" {74} и тому подобные; вышло и несколько так называемых
религиозных книг: одна под названием "Выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее" {75}, другая -
"Благое предупреждение" {76}, еще одна, озаглавленная "Напоминание Британии"
{77}, и многие другие, все, или почти все предсказывающие, явно или
косвенно, гибель города. Да что там - некоторые вошли в такой раж, что
бегали по улицам города с устными предсказаниями, утверждая, будто они
посланы проповедовать в столицу; особенно один - подобно Ионе в Ниневии -
кричал на улицах: "Еще сорок дней - и Лондону конец!" {78} Правда, я не
уверен, говорил ли он "еще сорок дней" или "еще несколько дней". Другой,
нагишом, в одних только штанах, бегал по улицам и непрестанно кричал, как
тот, вопивший "Горе Иерусалиму!" незадолго до его падения, о котором
упоминает Иосиф {79}. Так вот, этот голый бедняга кричал: "О великий и
грозный Боже!" - и больше ничего; он только с ужасом, не замедляя шаг,
повторял эти слова непрестанно; и никто не мог его уговорить, во всяком
случае, насколько мне известно, остановиться, отдохнуть либо поесть. Я
несколько раз встречал беднягу на улицах и пытался заговорить с ним, но он
никогда не вступал в беседу ни со мною, ни с кем-либо другим и лишь повторял
свои мрачные восклицания.
Все это крайне пугало народ, особенно, как я уже говорил, когда в
сводках сообщили, что в Сент-Джайлсе двое или трое умерли от чумы.
Поменьше, но тоже изрядно страху нагоняли пророческие сны старух или их
толкования снов других людей; {80} многие буквально помешались на этом.
Одним слышались голоса, подстрекавшие их к бегству, так как Лондону грозит
столь страшная чума, что живые не будут поспевать хоронить мертвецов. Другим
представали видения; но я должен сказать, и, надеюсь, никто не упрекнет меня
в бессердечии, что слышали они голоса, которых не было, видели знаки,
которых не появлялось: просто воображение людей было напряжено и одержимо
навязчивой идеей. И не диво, что те, кто беспрестанно всматривался в облака,
видели очертания и фигуры, напоминающие привидения, тогда как это были лишь
воздух да испарения. Тут они видели средь облаков огненный меч с воздетой
рукой, там - катафалки и гробы, ждущие погребения, а еще - груды трупов,
лежащих незахороненными, и тому подобное, - все это рисовало воображение
этих несчастных запуганных людей.
Больной фантазьи мнится - в небесах {81}
Сраженье, флот, солдаты, паруса...
Но трезвый взгляд развеет сей обман:
Причина тех картинок - лишь туман.
Я могу дополнить свой отчет удивительными рассказами, в которых люди,
что ни день, сообщали о своих видениях; и каждый был столь убежден, что он
действительно видел то, что ему хотелось бы видеть, что нечего было и думать
возражать ему, если не желал порвать с ним дружбу или прослыть огрубевшим,
неучтивым, невежественным и бесчувственным человеком. Однажды, кажется, в
первых числах марта, еще до начала чумы (если не считать двух вышеназванных
случаев в Сент-Джайлсе), я увидел толпу на улице, подошел к ней из
любопытства и обнаружил, что все уставились в небо, надеясь разглядеть то,
что только что ясно увидела одна женщина, а именно: ангела в белых одеждах с
огненным мечом в руках, размахивающего им над головой. Женщина многословно
описывала каждую подробность фигуры, ее движения и очертания, а бедняги
слушали ее так охотно, с такой готовностью! "Да, я тоже его вижу, - сказал
один. - Меч вырисовывается совсем явственно!" Другой увидел ангела. Третий
четко разглядел его лицо и воскликнул: "Какое великолепное зрелище!" Один
видел то, другой - се. Я так же честно вглядывался в небо, как и остальные,
но, возможно, не с такой готовностью подчиниться внушению; и должен
признаться, я не увидел ровно ничего, кроме белого облака, позлащенного с
одного края прятавшимся за ним солнцем. Женщина взялась было показывать, но
не могла заставить меня признаться, что я вижу ангела: ведь в таком случае
мне пришлось бы солгать. Тут женщина перевела на меня взгляд и вообразила,
будто я усмехаюсь; это было тоже плодом ее воображения, потому что я вовсе
не усмехался, а с полной серьезностью размышлял о том, до какой степени
бедняги запуганы своими же собственными выдумками. Однако она отвернулась от
меня, назвав меня глупцом и зубоскалом, сказала, что настало время гнева
Божия, страшная кара уже близка и насмешников, подобных мне, ждет неминучая
гибель.
Люди вокруг казались возмущенными не менее, чем она, убедить их в том,
что я не насмешничал, невозможно было; они скорее растерзали бы меня, чем
признали свое заблуждение. Так что я ушел от них; а об этом видении стали
говорить с не меньшей уверенностью, чем о самой комете.
Другой случай тоже произошел со мной среди бела дня, когда я шел по
узенькому проходу между Петти-Франс {82} и Бишопсгейтским кладбищем мимо
ряда лачуг. Там два кладбища при Бишопсгейтской церкви и приходе. Мимо
одного мы проходим, чтобы попасть с Петти-Франс на Бишопсгейт-стрит и
выходим прямо ко входу в церковь; другое находится рядом с узеньким
проходом, где слева стоят лачуги, а справа - невысокая ограда с
палисадником, и еще немного правее - городская стена.
И вот в этом узком проходе стоит человек и смотрит мимо палисадника на
кладбищенский дворик; его обступил народ, заполонив проулок и оставив лишь
малюсенькую щелку для проходящих мимо; человек говорит громко, с видимым
удовольствием, указывая то на одно место, то на другое. Он утверждает, что
видит привидение, разгуливающее вон у той могильной плиты; человек описывает
его наружность, позы и движения так точно {83}, что до глубины души изумлен,
почему остальные не видят его столь же явственно, как и он сам. Вдруг
мужчина внезапно вскрикивает: "Да вот оно! Теперь сюда пошло!" {84} А потом:
"Теперь возвращается!" И в конце концов он до такой степени убеждает народ в
присутствии привидения, что кто-то из толпы воображает, будто тоже его
видит; потом другой; и так он приходит ежедневно, порождая страшную давку и
сутолоку, если учесть, что все это происходит в таком узеньком проходе; это
продолжается, пока бишопгейтские часы не пробьют одиннадцать: тогда
привидение испуганно вздрагивает, будто кто-то зовет его, и исчезает.
Я старательно смотрел и туда и сюда, в точности как указывал этот
человек, но ничего не видел; однако бедняга говорил так убедительно, что все
пришли в страшное возбуждение, а потом расходились дрожащие и напуганные; и
в конце концов лишь немногие из тех, кто знал об этой истории, решались
ходить по этому проходу, а уж вечером и подавно.
По утверждению бедняги, привидение указывало на дома, на людей и на
землю, явно давая понять, - во всяком случае, так его понимали - что многие
будут похоронены на церковном кладбище, как оно и случилось в
действительности; но я никогда не мог поверить, что оно предвидело эту
перспективу, как не мог увидеть и его самого, хотя старался изо всех сил.
Эти случаи показывают, насколько люди находились во власти собственных
заблуждений; а так как у всех было представление о надвигающейся болезни, то
и предсказания были связаны с ужасами чумы, которая, по их утверждению,
поразит страшным мором город, а то и целое королевство, погубит чуть ли не
все живое - и людей и зверей.
К этому, как я уже говорил, добавились еще прогнозы астрологов,
утверждавших, что расположение планет неблагоприятно и предвещает несчастья.
Особенно роковое сочетание планет ожидалось в октябре, другое - в ноябре
{85}. Астрологи забивали людям головы предсказаниями, на которые якобы
указывали небесные светила, утверждая, что их расположение предвещает
засуху, голод и чуму. В отношении двух первых они, однако, ошиблись: у нас
не было засушливого периода - в начале года стояли сильные морозы,
продолжавшиеся с декабря по март, а потом была умеренная погода, скорее
теплая, чем жаркая, с освежающими ветрами, короче говоря, самая обычная
погода с несколькими очень обильными ливнями.
Были предприняты кое-какие усилия прекратить публикацию подобных книг и
брошюр, наводящих ужас на людей, пробовали также запугать их
распространителей, некоторые из которых были арестованы; но из этого,
насколько мне известно, ничего не вышло: правительству не хотелось вызывать
возмущение людей, и так уже ополоумевших от страха.
Не могу оправдать я и тех священников, которые своими проповедями
скорее повергали в уныние, чем вселяли надежду в сердца слушателей. Многие
из них, несомненно, поступали так, чтобы укрепить решимость людей,
поторопить их с покаянием, и все же это не оправдывало цели, особенно если
учесть вред, который это приносило; ведь, подумайте, раз сам Господь - это
проходит через все Священное Писание - привлекает к себе скорее призывами
обратиться к Богу, а не стращает всякими ужасами, то, должен признаться, по
моему разумению, и священникам следовало бы поступать соответственно,
подражая в этом Господу нашему и Спасителю; ведь в Евангелии столько сказано
о милосердии Божием, о Его готовности принять покаявшихся и простить им, о
Его сокрушении: "Что не приходите вы ко Мне, дабы обрести жизнь"; недаром
Его Евангелие зовется Евангелием Мира и Евангелием Благодати.
Но встречались и порядочные люди - и это по общему мнению и убеждению,
- которые все же говорили только о мрачных вещах, рассуждали о всяческих
ужасах, так что запуганный народ расходился от них весь в слезах, слыша лишь
жуткие пророчества о неминуемой гибели, - и все это вместо того, чтобы
наставлять людей молить Небо о милосердии.
В то несчастное время в религиозной жизни, и правда, наступил полный
разлад. Появилось несметное множество сект, движений и отдельных учений
{86}. Официальная англиканская церковь, правда, была восстановлена года
четыре назад вместе с реставрацией монархии; {87} но проповедники
пресвитериан, индепендентов {88} и всяких других течений стали
организовывать собственные общества и громоздить алтарь на алтаре: они
собирались на сходки, как и теперь, только не столь многочисленные;
диссиденты {89} в то время еще не сформировались в сплоченное общество, как
теперь; те же немногочисленные конгрегации, которые все же собирались
вместе, преследовались правительством, стремившимся помешать их собраниям
{90}.
Однако чума вновь примирила многих, во всяком случае на какое-то время;
и немало знаменитых священников и проповедников из диссидентов служили в
церквах, которые покинули приходские священники, так как многие из них
уехали, напуганные надвигающимся бедствием; и люди стекались в церковь, не
различая, кто там проповедует, чье и какое напутствие они слушают. Но с
окончанием мора дух благорасположенности сильно поубавился; в каждой церкви
вновь появился старый священник, или - если священник умер - новый был
направлен на его место; и все возвратилось на круги своя.
Беда никогда не приходит одна. Эти страхи и предчувствия толкали людей
на тысячи безрассудных и неблаговидных поступков, которые при других
обстоятельствах они не стали бы совершать и к которым их подстрекали всякие
дурные люди; например, многие стали бегать по предсказателям, колдунам и
астрологам, чтобы узнать свою судьбу или, как в простонародье говорили, что
им на роду написано, - то есть сколько они проживут и тому подобное; в
результате этой глупой мании весь город тут же заполонили толпы подонков,
выдававших себя за знатоков магии, или, как они выражались, чернокнижников,
и сам не знаю за кого еще; да что там, они готовы были приписать себе тысячу
значительно более чудовищных сношений с дьяволом, чем те, в которых были
повинны в действительности. И этот промысел стал таким открытым и
общераспространенным, что на дверях нередко виднелись вывески: "Здесь живет
предсказательница", или: "Здесь живет астролог", или: "Здесь вы сможете
узнать срок вашей жизни" и тому подобное; и почти на каждой улице можно было
увидеть либо бронзовую голову монаха Бэкона {91} - обычный знак на жилищах
такого рода людей, - либо изображение матушки Шиптон {92}, либо голову
Мерлина {93} и так далее.
Сколь нелепыми, смехотворными и глупыми выдумками эти пособники дьявола
услужали народ - не могу судить, но точно одно: ежедневно несметное число
посетителей толклось у их дверей. И чуть только какой-нибудь мрачный тип в
бархатном камзоле с пояском и в черном плаще (а именно такой наряд эти
квазиволшебники обычно носили) показывался на улице, люди шли за ним толпой
и осаждали вопросами прямо на ходу.
Стоит ли говорить, какой все это был чудовищный обман и к чему он
приводил? Но лекарства от него не было до тех пор, пока прекращение мора не
положило тому конец и не очистило город ото всех этих "исчислителей жизни".
К несчастью, когда бедняки спрашивали этих горе-астрологов, будет ли чума,
те дружно отвечали "да", так как это поддерживало их промысел. И не будь
люди столь смертельно напуганы надвигающимся бедствием, все эти провидцы тут
же оказались бы не нужны и искусству их пришел бы конец. Но пока только и
разговору было, что о таком-то и таком-то влиянии звезд, о сочетании
таких-то планет, которое с неизбежностью предвещает болезни и бедствия, а
следовательно, чуму. Некоторые с уверенностью утверждали, что чума уже
началась, и это было чистейшей правдой, хотя те, кто так говорили, и не
подозревали о том.
Надо отдать справедливость священникам и проповедникам самых разных
течений, людям умным и ответственным, - они как могли клеймили все эти
дурные занятия, обнажая их безрассудность и мерзостность, так что народ
трезвый и здравомыслящий в большинстве относился к ним с презрением и
отвращением. Но невозможно было воздействовать на обывателей и на бедный
рабочий люд. Страх подавил у них все прочие чувства, и они швыряли деньги на
все эти бредни самым безумным образом. Особенно горничные и лакеи - те были
самыми частыми посетителями, и обычно после традиционного вопроса, будет ли
чума, следующий вопрос был таким: "О сэр, Бога ради, что меня ожидает?
Оставит ли меня хозяйка или уволит? Останется ли сама она в городе или уедет
в провинцию? И, если уедет, возьмет ли меня с собой или оставит здесь и
обречет на голод и болезнь?" Подобные же вопросы задавали и лакеи.
Дело в том, что положение старых слуг было весьма тяжелым (у меня еще
будет случай по ходу рассказа поговорить об этом) - ведь значительная часть
их должна была бы остаться на улице, - да так оно и случилось впоследствии.
Многие погибли, особенно те, в кого эти лжепророки вселили надежду, посулив,
что господа, уезжая из города, возьмут их с собой; и если бы не общественная
благотворительность, пришедшая на помощь беднягам, число которых, как и
следовало ожидать, было весьма велико, они оказались бы в самом трудном
положении из жителей, оставшихся в городе.
Все это на многие месяцы, пока народ пребывал в тревожном ожидании, а
чума по-настоящему еще не разразилась, страшно будоражило умы простых людей.
Но не следует забывать, что здравомыслящая часть жителей вела себя по-иному.
Правительство поощряло благочестивые настроения, устанавливало дни публичных
молитв, поста и покаяния, дабы всем миром каяться в грехах и молить
Создателя, чтобы Он Своею милостию отвел страшное наказание, нависшее над их
головами; и невозможно описать, с какой готовностью люди любых убеждений
принимали участие в таких молениях, как они толпились вокруг церквей и
молитвенных домов; {94} народу стекалось столько, что иногда нельзя было
протиснуться поближе даже к дверям самых больших церквей. Кроме того, в
нескольких церквах устраивались ежедневно утренние и вечерние молебны; в
других же в определенное время каждый мог сам зайти и помолиться; и все эти
церкви, могу сказать, народ посещал с необычайной набожностью. В некоторых
семьях самых разных убеждений придерживались семейных постов и богослужений,
на которые допускались только родственники. Короче говоря, люди
здравомыслящие и набожные предавались молитве и покаянию, как и подобает
добрым христианам. Общество вновь обнаружило всеобщую готовность принять
участие в происходящем. Даже двор, в те времена очень веселый и роскошный,
выказал глубокую озабоченность общественной опасностью. Пьесы и интерлюдии,
которые на манер французского двора получали у нас все большее
распространение, были запрещены к представлению {95}, игорные дома {96},
танцевальные и музыкальные залы {97}, которых развелось очень много, что
способствовало развращению нравов, были закрыты и запрещены; паяцы, шуты,
кукольники, плясуны на канатах и прочие устроители подобных развлечений,
которые завораживали простолюдинов, принуждены были закрыть свои балаганы,
так как туда никто не ходил; все умы были сосредоточены на совсем иных
предметах, грустных и ужасных, отпечаток этого ужаса читался даже на лицах
обывателей. Перед глазами у всех была Смерть, все думали о могилах, а не о
веселье и развлечениях.
Но даже эти здравые размышления, - которые, будь они верно направлены,
привели бы людей к коленопреклонению, покаянию и мольбам к Спасителю нашему
о прощении грехов и о милости в дни бедствий, которые обрушились на нас,
почти как на Ниневию {98}, - приводили обывателей к противоположной
крайности: не менее невежественные и тупые в своих размышлениях, чем ранее
безрассудные и озверело-озлобленные, они под влиянием страха шли на любые
безумства и, как уже говорилось выше, бегали по колдунам, ведьмам и прочим
обманщикам, чтобы узнать свою судьбу (а те еще подогревали их страхи и
держали их в состоянии постоянной тревоги и ожидания, чтобы и дальше
морочить им голову и набивать себе карманы), они как одержимые устремлялись
за каждым знахарем и шарлатаном, за каждой практикующей старушкой в поисках
лекарств и снадобий; они пичкали себя таким количеством пилюль, микстур и
предохраняющих средств, как их называли, что не только швыряли деньги на
ветер, но и заблаговременно из страха заразы отравляли себя, ослабляя свой
организм перед началом чумы, вместо того чтобы укреплять его. В то же время
невозможно даже вообразить, сколько объявлений всяких профанов,
подвизающихся в знахарстве и предлагающих людям обратиться к ним за
лекарствами, было наляпано на дверях домов {99} и у перекрестков;
составлялись они в следующих цветистых выражениях: "Безупречные
предохранительные пилюли против чумы", "Самое действенное предохранение
против заразы", "Наилучшее укрепляющее средство против нездорового воздуха",
"Точные указания о принятии мер, дабы избегнуть заразы", "Противочумные
пилюли", "Несравненная микстура против чумы, никогда не применялась ранее",
"Универсальное лекарство против чумы", "Единственно действенная лечебная
вода против чумы", "Королевское противоядие от любых заболеваний" - и еще
многие, многие другие, которые я не запомнил, а если бы и запомнил, то они
одни заняли бы целую книгу.
Другие помещали объявления, предлагающие их навестить и получить
указания и советы на случай заболеваний. Подобные объявления были весьма
пространными. Например:
"Знаменитый голландский врач, недавно приехавший из Голландии, где он
жил в Амстердаме во время прошлогоднего чумного мора и вылечил массу людей,
уже заразившихся чумой".
"Матрона из Италии, только что прибывшая из Неаполя, обладает секретом
предотвращения заразы, открытым ею благодаря большому опыту лечения чумы;
она совершала чудеса во время последней чумы в Италии, когда умирало по
20000 человек за день".
"Старая женщина, с успехом практиковавшая во время последней лондонской
чумы, то есть в 1636 году, дает свои рекомендации только женщинам.
Обращаться и т. д.".
"Опытный врач, который долгое время изучал противоядия против любых
ядов и инфекций, после сорока лет практики достиг такого мастерства, что
может, с Божьей помощью, наставлять людей, как избежать любой заразной
болезни. Бедняки получают советы бесплатно".
Я привел эти объявления как образцы. Я мог привести еще две-три дюжины,
и все равно многие остались бы неучтенными. Но и этих достаточно, чтобы
составить представление о настроениях того времени; о том, как воры и
мошенники не только обманом грабили бедняков и выуживали у них денежки, но и
травили их вонючими жуткими смесями {100}, некоторые из которых содержали
ртуть, а некоторые и кое-что похуже, не имеющее ничего общего с лекарствами
и, в случае заболевания, скорее приносящее организму вред, чем пользу.
Не могу не упомянуть о хитрой уловке одного из таких знахарей, обманом
заставившего бедняков толпиться вокруг него, но ничего не делавшего для них
бесплатно. Он добавил к тем объявлениям, что расклеивал на улице, следующую
фразу, написанную заглавными буквами: "Беднякам советы даются бесплатно".
Естественно, очень много бедняков понабежало к нему; он наговорил им
массу пышных слов, осмотрел их и сообщил о состоянии здоровья каждого и дал
всяческие советы, которые не относились непосредственно к делу. Однако в
заключение он сказал, что располагает лекарством, которое, если принимать
его в таком-то количестве по утрам ежедневно, полностью предохраняет от
чумы, в чем он ручается собственной головой; да что там - зараза не
пристанет, даже если жить в одном доме с зачумленными.
Всем захотелось иметь это лекарство, но стоило оно очень дорого,
кажется, полкроны {101}.
- Послушайте, сэр, - сказала одна бедная женщина, - я нищенка, живу на
средства прихода, а в вашем объявлении сказано, что вы задаром помогаете
беднякам.
- Да, добрая женщина, - сказал доктор, - я поступаю именно так, как там
сказано. Я даром даю беднякам советы, но не лекарство.
- Увы, сэр, - сказала она, - тогда это просто насмешка над бедняками;
вы даете им советы задаром, но это просто означает, что вы задаром советуете
им покупать ваше лекарство; так поступает и любой лавочник, предлагая свой
товар.
И тут женщина начала обзывать врача всякими бранными словами и весь
день не отходила от его дверей, рассказывая об их разговоре другим
посетителям, пока наконец хозяину, понявшему, что она распугает всех его
покупателей, не пришлось позвать ее наверх и дать коробку с лекарством
задаром, хотя, впрочем, едва ли оно пошло ей на пользу.
Но возвратимся к людям, чьи заблуждения позволяли всяким мошенникам и
шарлатанам облапошивать их. Несомненно, все эти знахари страшно наживались
на страданиях ближних; мы ежедневно видели, как за ними толпами бежал народ,
а у входа в их жилища собиралось больше людей, чем у дверей доктора Брукса,
доктора Аптона, доктора Ходжеса, доктора Бервика {102} или любого другого из
знаменитых врачей того времени. И мне говорили, что некоторые из них
выручали до пяти фунтов в день за свои снадобья.
Но было еще и другое поветрие, почище первого, по которому можно
составить представление о растерянности бедняков в те времена; речь идет о
склонности людей верить еще худшему роду обманщиков; потому что те мелкие
жулики-шарлатаны просто нечестным путем очищали карманы люден, выманивая у
них деньги; и дурное это дело ложилось целиком и полностью на совесть
обманщиков. В тех же случаях, о которых я собираюсь рассказывать, оно
ложилось больше на совесть обманутых, точнее на обоих в равной степени; речь
идет о заклинаниях, магических формулах, заговорах, приворотных зельях,
талисманах, амулетах и сам не знаю каких еще приготовлениях, чтобы укрепить
тело против чумы; как будто чума не ниспослана Господом, а подчиняется злому
духу и может быть предотвращена с помощью крестиков, знаков зодиака,
бумажек, завязанных столькими-то узлами, на которых значатся определенные
знак или слово, как, например, слово "Абракадабра" {103}, расположенное
треугольником или пирамидой следующим образом:
АБРАКАДАБРА
АБРАКАДАБР
АБРАКАДАБ
АБРАКАДА
АБРАКАД
АБРАКА
АБРАК
АБРА
АБР
АБ
А
Другие имели иезуитскую мету на кресте:
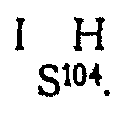
Третья - просто вот такой знак и больше ничего:

Я мог бы потратить немало времени на возмущенные возгласы по поводу
безрассудства и, по сути, греховности такого рода ухищрений в период
страшной опасности, связанной с заразой, распространившейся на весь народ.
Но мои воспоминания обо всем этом ставят целью лишь обратить внимание на тот
или иной факт, лишь сказать: "Это было так". О том, как бедняки обнаружили
бесполезность подобных ухищрений и сколько их позднее увезено было в
погребальных телегах вместе с этими дьявольскими амулетами и прочей мишурой
и сброшено в общие могилы, которые были вырыты в каждом приходе, я еще
расскажу по ходу дела.
Все это происходило из-за паники, когда люди впервые услыхали, что чума
приближается - пожалуй, где-то незадолго до Михайлова дня {105} 1664 года,
особенно же после того, как двое умерли в Сент-Джайлсе в начале декабря; а
потом - после следующей тревоги - в феврале. Когда же чума действительно
разразилась, люди быстро поняли, как глупо доверять этим безграмотным
созданиям, которые просто выманивали у них деньги; потом их страхи приняли
другое выражение: они повергли всех в полнейшее оцепенение и отчаяние; народ
не знал, куда податься и что предпринять для собственного спасения. Люди
бегали по соседям, от дома к дому, и даже кричали прямо на улицах: "Господи,
помилуй нас! Что же нам делать?"
И действительно, бедняков стоило пожалеть: ведь спасения им, почитай
что, не было; это вызывает ужас и наталкивает на серьезные размышления -
они, быть может, придутся по вкусу не всем читателям, - которые заключаются
в следующем: поначалу смерть заносила свой серп не над любой головой, а все
больше заглядывала в жилища бедняков, в их постели, всматривалась в их лица.
И хотя в поведении бедняков могли проявляться (да и проявлялись в избытке!)
и тупость и недомыслие, но было в нем немало совершенно оправданной тревоги,
идущей из глубины души, если можно так выразиться. У скольких пробудилась
совесть; сколько суровых сердец смягчилось; сколько было сделано покаянных
признаний в преступлениях, долгое время хранившихся в тайне! Не нашлось бы
такого христианина, который остался бы безучастен к предсмертным стонам
стольких отчаявшихся созданий, умиравших в одиночестве, так как никто не
решался приблизиться к ним, чтобы облегчить их мучения. А о скольких
убийствах и грабежах поведано было тогда громогласно, только никто из
слушателей не уцелел, чтобы сообщить об этих признаниях! Даже прохожим на
улицах было слышно, как люди призывали милосердие Божие, моля Спасителя
нашего Иисуса Христа и восклицая: "Я был вором!", "Я был прелюбодеем!", "Я
был убийцей!" - и тому подобное; но никто не смел остановиться, чтобы
расспросить подробнее об этих преступлениях или оказать помощь беднягам,
страждущим телесно и душевно, которые выкрикивали свои признания. Некоторые
священники поначалу навещали больных, но это длилось недолго {106}. Ведь это
было все равно, что предстать перед лицом Смерти. Даже могильщики, самые
закоснелые люди в городе, иногда отступали, не решаясь переступить порог
иных домов, где целые семьи были начисто скошены болезнью и где
обстоятельства смерти были особенно ужасны. Но так было только
попервоначалу.
Время приучило их ко всему, и позднее могильщики бестрепетно заходили в
любой дом, о чем у меня будет случай рассказать позднее.
Полагаю, что теперь, когда поветрие вот-вот должно было начаться,
городские власти стали всерьез обращать внимание на условия жизни людей. Что
именно предприняли они в отношении регулирования передвижения и изоляции
зараженных семейств, я расскажу особо; относительно же здравоохранения
уместно будет сказать здесь, что, видя безрассудство людей, гоняющихся как
полоумные за знахарями, шарлатанами, провидцами и предсказателями, как я уже
описывал выше, лорд-мэр, набожный и здравомыслящий человек {107}, направил
врачей и хирургов облегчить страдания бедняков - я хочу сказать, заболевших
бедняков, - а особливо велел Коллегии врачей издать указания, какими
дешевыми лекарствами следует пользоваться {108} при всех случаях
заболевания. Это была одна из самых милосердных и здравых мер, которые можно
было в то время предпринять, потому что она уменьшила число людей,
слонявшихся у дверей каждого, помещавшего объявление, и слепо принимавших
яд, а не лекарства, тем самым приближая смерть, вместо того чтоб сохранить
жизнь.
Эти указания врачей давались после консультаций со всей Коллегией; и
так как они были рассчитаны специально на бедняков, принимавших дешевые
лекарства, они распространялись таким образом, чтобы каждый мог с ними
ознакомиться: экземпляры раздавались бесплатно всем желающим. Но так как
перечень этих указаний был очень широко распространен и увидеть его можно
было буквально на каждому шагу, мне нет нужды утомлять читателя и приводить
его здесь дословно.
Я вовсе не хочу умалять авторитет или сомневаться в познаниях этих
врачей, утверждая, что яростная вспышка болезни, когда она достигла
наивысшей точки, была подобна пожару, случившемуся годом позднее. Огонь,
пожравший то, что чума оставила нетронутым, не поддавался никаким способам
тушения; все пожарные приспособления были сломаны, насосы и ведра отброшены
прочь, и вся мощь человеческая оказалась поставленной в тупик и совершенно
бессильной и несостоятельной. Так и чума не поддавалась никаким лекарствам,
и сами врачи угодили к ней в лапы, прямо вместе с предохранительными
пилюлями во рту {109}. Люди ходили по городу, поучая других, советуя, что
тем делать, пока симптомы болезни не появлялись у них самих и они не падали
замертво, сраженные тем самым врагом, бороться против которого учили других.
Такова была участь нескольких врачей, среди них были и самые известные
{110}, а также участь нескольких самых искусных хирургов. Немало и знахарей
перемерло; особенно тех, кто имели глупость верить в свои собственные
снадобья, тогда как им следовало бы осознать всю их бесполезность и, подобно
прочим воришкам, скорее бежать куда глаза глядят, понимая вину свою, от
справедливого наказания, которое должно было воспоследовать за их
сознательный обман.
То, что врачи умирали от общего бедствия, вовсе не умаляет их трудов и
стараний; утверждать это у меня и в мыслях не было; наоборот, это служило к
их чести - они рисковали собственной жизнью - и действительно теряли ее - в
служении человечеству. Они стремились делать добро, спасать людские жизни.
Но не следовало ожидать, что врачи будут в силах остановить возмездие Божие
или предотвратить болезнь, мощно вооруженную самим Небом, и помешать ей
выполнять ту миссию, ради которой она была ниспослана.
Несомненно, своим искусством, прилежанием и осмотрительностью врачи
помогли многим - многим спасли жизнь, многих поставили на ноги. Но, не
умаляя достоинств ни их самих, ни их искусства, должен сказать, что они не
могли спасти тех, у кого уже проступили признаки заразы {111} или кто уже
был смертельно болен до того, как послал за врачом, что случалось очень
часто.
Остается упомянуть, какие меры предпринимались городскими властями для
общей безопасности, чтобы предотвратить распространение болезни, когда она
только что разразилась. У меня еще не раз будет случай поговорить об их
милосердии, осмотрительности, бдительном отношении к бедным, стремлении
соблюдать порядок, снабжать население продовольствием и прочим необходимым,
когда болезнь начала распространяться, как это было позднее. А сейчас я хочу
остановиться на распоряжениях и правилах, изданных ими, относительно
содержания зараженных семей.
Ближе к июню лондонский лорд-мэр и Совет олдерменов {112} начали, как я
уже говорил, более пристально заниматься регламентацией жизни города.
Мировой судья Миддлсекса {113} по распоряжению министра велел запирать
зараженные дома в приходах Сент-Джайлс-ин-де-Филдс, Сент-Мартин,
Сент-Климент-Дейнз и других; и это дало хорошие результаты: на нескольких
улицах, где было началась чума, она исчезла после того, как стали строго
наблюдать за зараженными домами и немедленно хоронить мертвецов, как только
их обнаруживали. Заметили также и то, что чума, пожалуй, начала спадать в
тех приходах, где она особенно свирепствовала, по сравнению с такими
приходами, как Бишопсгейт, Шордич, Олдгейт, Уайтчепл, Степни и другие; и
сразу же принятые меры - такие как запирание домов - во многом помогли
остановить ее.
Это самое запирание домов впервые применили, насколько я знаю, во время
чумы 1603 года {114}, разразившейся в год вступления на престол Якова I;
{115} а право запирать людей в их же собственных домах было дано
парламентским указом, называвшимся "Указ о милосердной помощи и содержании
людей, заразившихся чумой"; на основании этого парламентского указа лорд-мэр
и олдермены города Лондона отдали распоряжение (оно вступило в силу 1 июля
1665 года, когда количество зараженных приходов в пределах Сити было еще
невелико - по последней сводке на 92 прихода было всего четыре зараженных),
согласно которому несколько домов в Сити было заперто, а кое-кого из
заболевших перевезли в чумной барак за Банхилл-Филдс {116}, неподалеку от
Излингтона {117}, и благодаря этим мерам, когда в городе умирало в целом
около тысячи в неделю, в Сити их было только 28 человек, и он оставался
самым здоровым районом в продолжение всего мора.
Как я уже говорил, эти распоряжения лорд-мэра были опубликованы в конце
июня и вступили в силу с 1 июля; звучали они следующим образом:
РАСПОРЯЖЕНИЯ,
сделанные и изданные лорд-мэром и олдерменами
города Лондона в связи с распространением
чумной заразы, 1665 {118}
В период правления светлой памяти суверенного государя нашего Якова был
издан "Указ о милосердной помощи и содержании людей, заразившихся чумой", по
которому мировым судьям, мэрам, бейлифам {119} и другим городским властям
дано было право в пределах вверенных им участков направлять наблюдателей,
дозорных, сторожей и могильщиков к больным или в места, зараженные чумой, и
брать с них присягу, что они будут исполнять возложенное на них поручение.
Тот же указ уполномочивал их издавать и другие распоряжения, которые в
настоящей ситуации покажутся им уместными. И вот теперь, после
всестороннего, хотя и недолгого, обдумывания мер по предотвращению и
избежанию распространения болезни (коли на то будет милость Божия), все эти
должностные лица должны быть назначены, а нижеследующие распоряжения
неукоснительно исполняться.
Наблюдатели должны быть направлены в каждый приход.
Во-первых, представляется необходимым (и отдается соответствующее
распоряжение), чтобы в каждом приходе было выделено по одному, два или более
благонадежных жителя, назначаемых олдерменом (или его представителем) и
общим советом для каждой части города и называемых наблюдателями и
остающихся в этой должности не менее двух месяцев. Если же какое-либо лицо,
назначенное на подобную должность, откажется от своих обязанностей, то
названное лицо будет заключено в тюрьму и будет содержаться там до тех пор,
пока не согласится подчиниться распоряжению.
Обязанности наблюдателя
С этих наблюдателей олдермен должен взять клятву, что они время от
времени будут узнавать путем расспросов, какие дома в приходе заражены,
какие люди захворали, и определять, насколько они окажутся способны это
сделать, что это за болезни; а ежели возникнут какие сомнения, запрещать
общение с заболевшими до того времени, пока не станет ясно, что у них за
недуг. А если окажется, что у кого-либо все же заразная болезнь, дать
указание констеблю {120}, чтобы тот запер дом; если же констебль окажется
нерадивым и пренебрегающим своими обязанностями, немедля сообщить об этом
олдермену соответствующего участка.
Дозорные
К каждому зараженному дому приставляются двое дозорных: один на ночь,
другой на день; эти дозорные должны неусыпно следить, чтобы никто, ни под
каким предлогом не входил в дом и не выходил из него под страхом сурового
наказания. И названные дозорные должны выполнять те поручения, в которых
будут нуждаться жители дома и о которых они будут их просить; и если
дозорного пошлют по делам, он должен запереть дом, а ключ взять с собой;
дневной дозорный дежурит до десяти вечера, ночной - до шести утра.
Осматривающие
Специальное внимание в каждом приходе следует уделить выбору женщин с
хорошей репутацией и самыми похвальными качествами, дабы использовать их для
осмотра больных и умерших; названные женщины должны дать присягу, что они
будут тщательно осматривать и правдиво докладывать, насколько позволяют им
знания и опыт, заболел ли тот или иной человек чумой или какой-либо другой
болезнью, то же и в случаях смерти. И чтобы врачи, направленные для лечения
и предотвращения заразы, вызывали к себе названных женщин, направленных для
осмотра больных во вверенный им приход, с целью выяснить, можно ли считать
этих женщин пригодными для такой работы, а также попенять им время от
времени, ежели они плохо исполняют свои обязанности.
Всем женщинам, занимающимся осмотром больных в период чумной заразы, не
разрешается наниматься на общественную работу, содержать лавку или ларек,
работать в прачечной или заниматься какой бы то ни было другой работой,
связанной с обслуживанием жителей города.
Хирурги
Для помощи названным женщинам, занятым осмотром, а также ввиду того,
что огромный вред произошел бы от неверного диагноза из-за дальнейшего
распространения заразы, дается распоряжение найти и направить работать
способных и надежных хирургов, помимо тех, что уже работают в чумном бараке;
Сити и слободы должны быть разделены на наиболее удобные районы, и каждый
хирург получить по участку в свое полномочие; и чтобы названные хирурги во
вверенных им участках присоединялись бы к женщинам, осматривающим тела, для
более точного определения болезни; и чтобы названные хирурги посещали и
осматривали тех, кто либо посылает за ними, либо к кому их направляют
наблюдатели данного прихода. А так как названным хирургам запрещено лечить
от каких-либо других болезней, а велено лишь заниматься чумой, приказано,
чтобы они получали по двенадцать пенсов за осмотр каждого тела,
выплачиваемых из имущества покойного, а если такового не имеется, то из
средств прихода.
Сиделки
Если сиделка перешла в другой дом из любого дома, зараженного чумой,
менее чем через 28 дней после смерти последнего из зачумленных, то дом, в
который перешла названная сиделка, запирается на те самые 28 дней, о которых
говорилось выше.
РАСПОРЯЖЕНИЯ
относительно зараженных домов и людей, заболевших чумой
Сообщение о болезни
Хозяин дома, как скоро у кого-либо из его домочадцев обнаружатся пятна,
нарывы, покраснения или ломота в любой части тела, а также любые другие
признаки тяжелого недомогания без явных причин для какой-либо другой
болезни, должен сообщить об этом наблюдателю в течение двух часов после
появления названных признаков.
Изоляция больных
Как только человек будет сочтен наблюдателем, хирургом или женщиной,
занимающейся осмотром, заболевшим чумой, он должен тут же быть ограничен
пределами того дома, где он находится; в случае, если больной, пребывающий в
изоляции, не умер, дом, где он находился, после надлежащих мер по очистке,
должен оставаться запертым еще в течение месяца.
Проветривание вещей
Для устранения заразы с предметов и вещей больного постель, одежда и
все драпировки спален {121} должны быть хорошо проветрены и прокурены с
употреблением тех ароматических веществ, которые в таких случаях
применяются; все это должно быть сделано по распоряжению наблюдателя до
того, как вещами вновь начнут пользоваться.
Запирание домов
Если кто-либо навестит больного чумой или же самовольно, без разрешения
пойдет в дом, где обитает чума, его собственный дом будет на несколько дней
заперт по распоряжению наблюдателя.
Никто не выходит из зараженных домов, кроме и т. д.
Эта статья гласит, что ни один человек не может выехать из дома, где он
заболел, ни в какой другой дом города (за исключением чумного барака или
дома, которым располагает владелец названного дома и который обслуживается
его собственными слугами); при этом необходимо обеспечить безопасность
прихода, в который въезжает такой человек, и чтобы сам переезд совершался
ночью. Тому, кто имеет два дома, разрешается по выбору перевезти либо
здоровую, либо заболевшую часть семьи в свободный дом, но так, что ежели он
прежде посылает здоровых, то уже не посылает туда больных, и наоборот - к
больным здоровых; и те, кого он переселяет, будут, по крайней мере в течение
недели, заперты в доме на случай, если зараза не проявилась сразу.
Захоронение умерших
Хоронить умерших вовремя мора следует в наиболее удобные для этого часы
- либо перед рассветом, либо после заката, и не иначе, как с ведома
церковного старосты и констебля; ни соседям, ни друзьям не разрешается
провожать тело в церковь или заходить в зараженный дом под страхом тюремного
заключения, а также под угрозой того, что их собственный дом будет заперт.
Ни один покойник, скончавшийся от чумы, не может находиться в церкви
или предаваться земле во время церковной службы, проповеди или обращения к
пастве; во время похорон детям не разрешается находиться в церкви или на
кладбище, подходить к телу, гробу или могиле. И могила должна быть не менее
шести футов глубиной {122}.
После похорон любые публичные сборища запрещены на время мора.
Никаких заразных вещей нельзя продавать
Запрещено выносить или передавать кому-либо одежду, вещи, постельные
принадлежности, драпировки из зараженных домов; деятельность уличных
старьевщиков и торговцев подержанными вещами категорически запрещается под
страхом лишения свободы; всем торговцам подержанными постельными
принадлежностями и одеждой возбраняется устраивать выставки или вывешивать
товар в лавочках, витринах, окнах, выходящих на улицу, переулок, проход или
проезд, а также продавать старую одежду и постельные принадлежности под
страхом тюремного заключения. И если какой-нибудь старьевщик или кто бы то
ни было другой купит одежду, постельные принадлежности и другие вещи из
зараженного дома до истечения двухмесячного срока карантина, его собственный
дом будет заперт как зараженный и будет оставаться закрытым не менее
двадцати дней.
Ни один человек не вправе покидать зараженные дома
Если кому-либо из людей, могущих переносить заразу, удастся в
результате небрежности надзора или по каким-либо иным причинам прийти или
быть доставленным из зараженного в какое-либо иное место, приход, из
которого эта личность пришла или была доставлена, по получении об этом
сведений, должен за счет ушедшего заставить названную личность вернуться
обратно в ночное время суток; а виновные стороны должны быть наказаны по
распоряжению олдермена данного участка, а дом того, кто принял заразного
человека, будет заперт на двадцать дней.
Каждый дом, зараженный чумой, должен быть помечен
Каждый дом, зараженный чумой, должен быть помечен посреди двери алым
крестом, хорошо заметным, в фут высотой, а также словами: "Господи, смилуйся
над нами!", написанными рядом с крестом и остающимися на двери до законного
открытия запертого дома.
Каждый зараженный дом должен охраняться
Констебль должен проследить, чтобы при каждом запертом доме был
дозорный или сторож, следящий за тем, чтобы из дома никто не вышел, а также
снабжающий жильцов необходимым либо на их деньги, если они у них есть, либо
на общественные средства, если денег у них не имеется; дома запираются на
срок не более месяца.
Строгие указания должны быть даны осматривающим женщинам, хирургам,
сторожам и могильщикам, что они не могут показываться на улице без красного
жезла или палки трех футов длины в руках, открытой взгляду и хорошо заметной
со стороны; кроме того, они не имеют права заходить ни в один дом, кроме
своего собственного и того, в который были направлены, и по возможности
избегать общения с людьми, особенно если им незадолго до того пришлось
посещать зараженные дома.
Жильцы
В случае, если в доме, где проживает несколько жильцов, один из них
заболел, ни одному из жильцов или семейств такого дома не разрешается
перевозить заболевшего или переезжать самому без справки о состоянии
здоровья от наблюдателя соответствующего прихода; если же этот приказ будет
нарушен, дом, в который поместят больного или переедут здоровые, будет
считаться зараженным и соответственно будет подлежать запиранию.
Наемные кареты {123}
Так как было замечено, что некоторые из наемных карет перевозят
заболевших в чумной барак и некоторые другие места, должны быть приняты
меры, чтобы после таких перевозок наемным каретам не разрешалось приступать
к работе прежде, чем кареты не будут хорошенько проветрены и не простоят без
употребления пять-шесть дней после каждой такой возки.
РАСПОРЯЖЕНИЯ
относительно уборки и содержания улиц в порядке
Улицы должны содержаться в чистоте
Во-первых, совершенно необходимо, о чем дается соответствующее
распоряжение, чтобы каждый домовладелец ежедневно убирал улицу перед своим
домом и содержал ее чисто выметенной в течение всей недели.
Мусорщики должны убирать мусор от домов
Сор и грязь из домов должны ежедневно увозиться мусорщиками; мусорщик
должен оповещать о своем приближении звуком рожка, как это делалось раньше.
Помойки и навозные кучи должны быть как можно более удалены от города
Помойки и резервуары с нечистотами должны быть как можно более удалены
от Сити и от людных дорог; ночным прохожим, как и всем остальным, строго
запрещается облегчать кишечник в садах и окрестностях Сити.
Необходимо остерегаться несвежих рыбы и мяса и подпорченного зерна
Особые меры должны быть приняты к тому, чтобы ни несвежей рыбы, ни
протухшего мяса, ни подпорченного зерна, ни гнилых фруктов и других
продуктов не продавалось ни в пределах Сити, ни в его окрестностях. А также
чтобы пивоварни и другие питейные заведения регулярно осматривались, на
предмет - не покрыты ли плесенью и грязью бочки.
Чтобы никаких ягнят, собак, кошек, домашних голубей, кроликов не
держали в пределах Сити, чтобы ни одна свинья не забрела на улицы и в
переулки Сити, а если таковое случится, названная свинья будет конфискована
бидлом {124} или другим должностным лицом, а ее владелец наказан, согласно
Указу городского совета; собак же будут убивать специально направленные для
этого лица.
РАСПОРЯЖЕНИЯ
относительно бездельников и праздных сборищ
Поскольку ничто не вызывает таких нареканий, как множество оборванцев и
бродячих нищих, толпящихся на каждой площади Сити и являющихся первейшим
источником распространения заразы (причем пока что с этим бедствием ничего
не удавалось поделать, несмотря на уже изданные распоряжения), настоящее
распоряжение обязывает констеблей и всех других городских должностных лиц,
кому это вменяется в обязанность, принять особые меры, дабы никакие бродячие
нищие не слонялись по улицам, ни в каком виде и ни под каким предлогом, под
страхом штрафа, положенного по закону, согласно которому они будут должным
образом сурово наказаны.
Представления
Представления, травля медведей {125}, игры, состязания с мячом и щитом
в руках, пение баллад на улицах {126} и другие увеселения, приводящие к
скоплению народа, полностью запрещаются, а нарушившие этот приказ сурово
наказываются олдерменом соответствующего участка.
Празднества запрещены
Все публичные празднества и особенно сборища корпораций {127} в Сити,
обеды в тавернах, пивных и других местах общественных развлечений запрещены
до дальнейших указаний; а деньги, тем самым сэкономленные, должны быть
сохранены и употреблены на благотворительные цели и на облегчение страданий
бедняков, заразившихся чумой.
Питейные заведения
Беспорядочное распивание напитков в тавернах, пивных, кофейнях {128},
погребках порицается и как в принципе греховное занятие, и как один из
серьезных источников распространения чумы. И никакая корпорация или
отдельное лицо не должны под страхом штрафа приходить в таверну, пивную,
кофейню или задерживаться в них позднее девяти вечера, согласно старому
закону и обычаю, принятому в Сити.
А для наилучшего исполнения всех этих правил и распоряжений, как и
других правил и указаний, мы, по зрелому размышлению, сочли необходимым,
чтобы олдермены, их представители и члены городского совета собирались
еженедельно, а если обстоятельства потребуют, то два, три и более раз в
неделю, в определенном месте, отведенном в соответствующем районе
(содержащемся в чистоте и удаленном от мест заразы), чтобы советоваться, как
названные меры могут должным образом исполняться; никто из проживающих около
зараженных мест не должен посещать названные собрания до тех пор, пока их
приход может представлять определенную опасность. А кроме того, олдермены,
их представители и члены городского совета во вверенных им участках могут
отдавать и любые другие распоряжения, которые на названных собраниях будут
сочтены полезными для ограждения подданных Его Величества от заразы.
Сэр Джон Лоуренс, лорд-мэр
Сэр Джордж Уотермен |
} шерифы {129}
Сэр Чарлз Доу |
Нет нужды говорить, что эти распоряжения были действенны лишь для тех
мест, на которые распространялись полномочия лорд-мэра {130}, однако
необходимо отметить, что мировые судьи в так называемых поселках {131} и
пригородах стали придерживаться тех же правил. Насколько помню, распоряжение
о запирании домов не вступило так быстро в силу на нашей стороне, потому
что, как уже говорилось, чума не достигла этой, восточной, части города,
или, во всяком случае, была не такой жестокой, по крайней мере до начала
августа. Например, общая сводка смертности с 11 по 18 июля насчитывала 1761
человек, из которых от чумы во всех пригородах, называемых поселками Тауэра,
умерло следующее количество:
на следующей а к 1-му августа
неделе так:
было так:
Олдгейт 14 34 65
Степни 33 58 76
Уайтчепл 21 48 79
Сент-Кэтрин,
Тауэр {132} 2 4 4
Тринити,
Минериз {133} 1 1 4
Итого 71 145 228
Однако смертность быстро возрастала, и уже в соседних приходах за ту же
неделю число похорон было следующим:
на следующей
неделе число а к 1-му августа
похорон таким:
было таким:
Церковь
Сент-Лионард,
Шордич {134} 64 84 110
Церковь Сент-
Ботольф, Би-
шопсгейт {135} 65 105 116
Церковь Сент-
Джайлс,
Крипплгейт {136} 213 421 554
Итого 342 610 780
Запирание домов считалось поначалу очень жестокой, нехристианской
мерой, и бедняги, запертые таким образом, горько жаловались. Жалобы на
жестокое обращение ежедневно доставлялись лорд-мэру; касались они домов,
которые запирали без веских на то причин, а иногда и из дурных побуждений;
не могу сказать, так ли это было в действительности, но после расследования
многие, кто столь громко жаловался, были сочтены в таком состоянии, что
нуждались в изоляции, в других же случаях при повторном осмотре заболевшего
болезнь признавалась незаразной. В случаях неясных дом открывали, если
больной соглашался отправиться в чумной барак. Бесспорно, запирать двери и
устанавливать сторожа, который обязан был днем и ночью следить, чтобы из
дома никто не выходил, и наоборот - вовнутрь бы никто не проник, тогда как,
быть может, здоровые люди в семье могли бы спастись, будь они отделены от
больных, - казалось очень суровой и жестокой мерой; многие умерли в этом
ужасном заточении из тех, кто - естественно предположить - не заразился бы,
хоть в доме и поселилась чума, если бы свобода его не была ограничена;
поначалу люди громко протестовали, были страшно напуганы, несколько актов
насилия было совершено в отношении сторожей, и некоторые из них пострадали;
кроме того, в разных районах города многие вырвались на свободу силой, о чем
я еще расскажу. Однако следует помнить, что это были меры для всеобщей
пользы, оправдывающие беды отдельных лиц; причем никто не получал
послабления, с какими бы просьбами ни обращались в магистрат и в
правительство, во всяком случае, мне о подобных исключениях ничего не
известно. Все это заставляло людей пускаться на всевозможные уловки, чтобы
выбраться на волю; можно было бы составить целый том, заполненный рассказами
об ухищрениях, на которые шли жители запертых домов; чего только они не
предпринимали, чтобы сторож закрыл глаза на их побег, или чтобы обмануть
его, или чтобы вырваться силой, что частенько приводило к потасовкам и
нанесению увечий, о чем я и расскажу.
Однажды, проходя по Хаундсдич {137}, я услыхал страшный шум. Правда,
народу собралось не так уж много, потому что людям не разрешали собираться
гурьбой и толпиться; не стал и я особо задерживаться. Но крик был настолько
громкий, что пробудил мое любопытство, так что я окликнул одного из
выглядывавших из окна и спросил, что случилось.
Оказалось, что наняли сторожа, которому было поручено стоять на посту у
зараженного (или предположительно зараженного) чумой дома; он провел там две
ночи кряду, днем же, как он сам рассказывал, там находился другой сторож,
который и сейчас должен был подойти сменить его. За все это время в доме не
раздалось ни шороха, не зажглось ни единого огонька; его ни о чем не
просили, не посылали ни с какими поручениями (а именно это и являлось обычно
главной обязанностью сторожа); одним словом, не причиняли ему, как он
выразился, никакого беспокойства с середины понедельника, когда он слышал в
доме громкие вопли и плач, вызванные, предполагал он, близкой смертью
кого-то из домочадцев. За день до этого, когда погребальная телега, как ее
называли, остановилась у их дверей, из дома вынесли труп горничной,
завернутый лишь в кусок зеленой дерюги, и могильщики, или погребальщики, как
их называли, положили его на телегу и увезли.
Сторож, услышав крики и плач, о которых говорилось выше, постучал в
дверь, но долгое время никто не откликался; однако в конце концов кто-то
выглянул и сказал поспешной скороговоркой, хотя в голосе еще слышались
слезы:
- Что вам надобно? Зачем подняли такой шум?
- Это сторож, - ответил тот. - Как вы там? Что случилось?
- Какое вам до этого дело? - был ответ. - Сходите за погребальной
телегой.
Этот разговор был около часу ночи. Вскоре, рассказывал парень, он
остановил телегу и стал снова стучаться, но никто не ответил. Сторож
продолжал стучать, а возница с колокольчиком выкрикнул несколько раз:
"Выносите своих мертвецов!"; но ответа не было, наконец возницу позвали в
другие дома, он не захотел долее ждать и уехал.
Сторож терялся в догадках, как все это понимать, но решил отложить
выяснения до утра, пока не придет его сменщик, или дневной дозорный, как их
называли. Когда он рассказал ему обо всем в подробностях, оба начали
колотить в дверь; стучали долго, но никто не ответил. Тут они заметили, что
окно, точнее, сводчатое оконце на высоте двух лестничных маршей, через
которое им уже отвечали раньше, осталось открытым. Тогда они, чтобы
удовлетворить свое любопытство, принесли большущую лестницу, и один
взобрался на нее и заглянул в комнату. Там увидел он мертвую женщину,
лежащую на полу в самом плачевном состоянии, едва прикрытую сорочкой. Но
хоть он громко кричал и стучал об пол своим жезлом, никто не откликнулся, да
и никаких звуков в доме не было слышно.
Он спустился вниз и рассказал об всем своему сменщику. Тот тоже слазил,
но не обнаружил ничего нового; они не захотели лезть в окно, а решили
сообщить обо всем либо лорд-мэру, либо еще кому-нибудь из магистрата. После
их сообщения магистрат приказал дом открыть; пришли констебль с понятыми
следить, чтоб чего не украли; соответственно, дверь взломали, но никого не
нашли, кроме молодой женщины, зараженной чумой, которой уже ничто не могло
помочь; остальные бросили ее умирать в одиночестве и не то нашли какой-то
способ отвлечь сторожа и вышли через дверь, не то - через боковую дверь, не
то - через крышу, так что сторож этого не заметил; а что до криков и стонов,
которые он слышал, так это были причитания при прощании, крайне тягостном
для всех, потому что молодая женщина приходилась сестрой хозяйке дома.
Хозяин, его жена, несколько детей и слуг - все сбежали; здоровые или больные
- я так и не узнал, да, по правде говоря, и не особенно старался потом
разузнать.
Множество подобных побегов совершалось из запертых домов, особенно
когда сторожа усылали с каким-нибудь поручением; ведь в обязанности его
входило исполнять любые поручения, куда бы его ни посылали жильцы, а именно:
за пищей, лекарствами, позвать врача, если тот согласится пойти, или
хирурга, или сиделку, заказать погребальную телегу, словом, за всем
необходимым; однако с условием, что, когда сторож уходит, он запирает
входную дверь, а ключ уносит с собой. Противясь этому и стремясь обмануть
сторожа, люди заводили по два-три ключа к замку либо ухитрялись вывинчивать
замок, если это было возможно, и таким образом снимать его, находясь внутри
дома; и когда они усылали сторожа на рынок, в пекарню или за какой-нибудь
безделицей, то отпирали дверь и могли выходить наружу, сколько их душе
угодно. Однако все это обнаружилось, и власти вынуждены были приказать
прикреплять с внешней стороны к дверям болты и навешивать висячие замки.
В другом доме, как мне говорили, на улице, соседствующей с Олдгейт,
заперли всю семью только потому, что заболела горничная. Хозяин дома
жаловался через друзей ближайшему олдермену, а также лорд-мэру и сказал, что
готов отправить горничную в чумной барак, но ему отказали; так что на двери
у него намалевали красный крест, навесили замок, как было сказано выше, а к
дому, согласно правилам, приставили сторожа.
Когда хозяин дома понял, что спасения нет, что он с женой и детьми
заперты под одной крышей с этой несчастной больной служанкой, он кликнул
сторожа и велел, чтобы тот достал сиделку для ухода за бедной девушкой,
потому что им самим нянчиться с ней - верная гибель; он дал ясно понять,
что, ежели сиделка не будет найдена, девушка наверняка уж умрет, если не от
болезни, так от голода, потому что он твердо решил, что никто из его семьи и
близко к ней не подступится, а лежит она на чердаке, на высоте пятого этажа,
так что оттуда никто не услышит ни ее плача, ни криков о помощи. Сторож
согласился, ушел, разыскал сиделку, как ему было велено, и вернулся с ней
тем же вечером. Это время хозяин дома употребил на то, чтобы проделать
здоровенную дыру из своей лавки на первом этаже в соседний сарайчик, где
раньше сидел сапожник, который в те мрачные времена не то умер, не то уехал
из города, так что ключ остался у хозяина дома. Проделав проход в сарайчик
(чего он не смог бы осуществить, если б сторож сидел у дверей, так как шум
работы непременно встревожил бы его), повторяю, проделав проход в сарайчик,
он преспокойно ждал, пока сторож не вернется с сиделкою; прождал он и весь
следующий день. Но к ночи, услав сторожа еще по какому-то пустячному
поручению (насколько я помню, к аптекарю за примочками {138} для служанки,
так что сторож должен был дожидаться, пока аптекарь приготовит их, а может,
и еще за чем-то, но только так, чтобы задержать его не некоторое время), он
вывел всю семью из дома, оставив сиделку и сторожа хоронить бедную девушку -
то есть бросить ее в погребальную телегу, - а также позаботиться о своем
доме и имуществе.
Я могу рассказать великое множество подобных историй, довольно
занятных, с которыми мне довелось столкнуться в долгие месяцы этого мрачного
года, - я хочу сказать, за правдивость которых я ручаюсь, во всяком случае,
за правдивость основных событий, потому что никто в такое время не мог бы
поручиться буквально за все подробности. Рассказывали также о всяческих
актах насилия по отношению к сторожам; и думаю, что за время мора было не
менее восемнадцати - двадцати случаев, когда их убивали или очень тяжко
ранили, так что их принимали поначалу за покойников; все это делалось
обитателями запертых домов, когда они пытались выбраться оттуда, а сторожа
им препятствовали.
Да и чего можно было ожидать - ведь в городе оказалось столько тюрем,
сколько было запертых домов; и так как люди, подвергнутые тюремному
заключению, не знали за собой никаких преступлений и были заперты лишь
потому, что их дом постигло несчастье, то мириться с лишением свободы им
было особенно невыносимо.
Кроме того, большая разница заключалась и в том, что эти тюрьмы, как мы
их назвали, имели всего одного тюремщика, и он должен был охранять весь дом;
а так как во многих домах было по нескольку выходов (где больше, где меньше)
и даже иногда на разные улицы, то одному человеку невозможно было так их
охранять, чтобы не дать ускользнуть людям, доведенным до отчаяния ужасом
своего положения, обидой на несправедливое обращение и свирепостью самой
болезни; и вот - один беседовал со сторожем у парадного входа, пока вся
семья убегала через заднюю дверь.
Приведу пример: от Коулмен-стрит {139} отходило множество переулков,
большинство из которых все еще уцелело. Один из домов в таком переулочке,
называвшемся Уайт-Элли, был заперт; однако в нем была даже не задняя дверь,
а окно, выходившее во двор, из которого был проход в другой переулок,
Белл-Элли {140}. Сторож был поставлен констеблем у входа в дом, где он или
его сменщик и стояли денно и нощно; тем временем семья вылезла однажды
вечером черев окно во двор, оставив бедняг караулить пустой дом в течение
двух недель.
Неподалеку от этого места в сторожа пальнули порохом и сильно опалили
беднягу; пока он жутко орал и никто не решался прийти ему на помощь, все
домочадцы, способные передвигаться, выбрались через окно второго этажа,
оставив двоих больных, несмотря на их вопли о помощи. К ним приставили
сиделок, а убежавших не нашли; они объявились, лишь когда мор закончился; но
так как ничего нельзя было доказать, то ничего им и не было.
Надо учесть и то, что, так как это были тюрьмы без решеток и запоров,
которые всегда имеются в настоящих тюрьмах, то люди со шпагой или пистолетом
в руках вылезали из окон прямо на глазах у сторожей и угрожали беднягам
смертью, если они шелохнутся или закричат.
Кроме того, у многих были сады со стенами, изгородями, дворами и
сараями, а соседи - по дружбе или поддавшись на уговоры - разрешали
перелезть через стены и загородки и выйти наружу через их двери. Либо
подкупались соседские слуги, чтобы те их выпустили в ночное время; короче
говоря, на запирание домов никак нельзя было полагаться. И уж вовсе не
отвечало оно своим целям, лишь доводя людей до отчаяния и толкая их на
крайние поступки, так что они готовы были пуститься в любую авантюру.
И, что еще хуже, многие сбежавшие - бездомные больные в отчаянном
состоянии - сильней распространяли заразу, чем если бы они оставались дома;
ведь кто бы ни вникал в детали упомянутых случаев, каждый должен был
признать несомненным, что именно суровость заточения доводила людей до
отчаяния, заставляла стремиться выбраться из своих домов любой ценой {141},
пусть даже признаки чумы уже проступили у них, и они сами не понимали, куда
бежать, что делать, и, можно сказать, не ведали, что творили; многие из
таких людей, доведенных до крайней нужды, умерли прямо на улице или в поле
просто от голода либо были сражены свирепою лихорадкою. Другие слонялись по
деревням, шли все дальше и дальше, подгоняемые отчаянием, сами не зная, куда
их ноги несут, пока измученные, в полуобморочном состоянии, лишенные всякой
помощи и поддержки - ведь и особняки, и деревенские домишки, встречавшиеся
им по дороге, отказывали им в ночлеге, не разбираясь, больны они или
здоровы, - они не гибли в придорожных канавах или сараях, причем никто не
решался приблизиться к ним и облегчить их страдания, хотя, возможно, многие
из этих несчастных и не были заразными, но никто не хотел рисковать.
С другой стороны, когда чума приходила в семью, - то есть когда
кто-либо из домочадцев по неосторожности либо по какой иной причине
подхватывал заразу и приносил ее в дом, - это, естественно, становилось
известно прежде всего домашним, а уж потом официальным лицам, которые, как
вы знаете из "Распоряжения", направлялись для выяснения обстоятельств
болезни, когда поступали сведения, что в доме появился больной.
За этот промежуток времени - то есть с момента заболевания и до прихода
официальных лиц - у хозяина дома было предостаточно времени и возможностей,
чтобы уйти самому или вместе с семьей, - лишь бы только ему было куда уйти.
Многие так и поступали. Но самым большим бедствием было то, что многие
поступали-то так уже будучи зараженными и тем самым заносили болезнь в те
дома, которые столь радушно их приютили, что нельзя не признать черной
неблагодарностью со стороны гостей.
Этим частично и объяснялось общее мнение (точнее, общее возмущение
поведением заболевших), согласно которому они без зазрения совести заражали
других; однако могу сказать, что хотя в некоторых случаях так оно и было, но
все же не столь повсеместно, как утверждалось в народе.
Чем можно объяснить столь дурное поведение в момент, когда людям
следовало бы считать себя на пороге Страшного Суда, я не знаю. Совершенно
убежден, что такое поведение несовместимо как с религией и нравственными
устоями, так и с благородством и человечностью, но у меня еще будет случай
поговорить об этом.
Сейчас речь идет о людях, доведенных до отчаяния сознанием того, что
они заперты или будут заперты; о том, что они готовы были выбраться из дома
и при помощи хитрости, и при помощи грубой силы либо еще до того, как
попадали в заточение, либо позднее; однако несчастья этих людей вовсе не
уменьшались после того, как они попадали на свободу, а, наоборот, самым
плачевным образом возрастали. С другой стороны, многие из тех, кто таким
образом выбрался на свободу, имели дома, где они могли укрыться и где они
сами запирались и пережидали чуму; немало семейств, предвидя надвигающийся
мор, делали запас провизии, достаточный для целой семьи, и укрывались от
света настолько хорошо, что их не видали и не слыхали в продолжение всего
бедствия, и только по его окончании они вновь показались на свет целыми и
невредимыми. Я могу припомнить несколько таких семейств и рассказать в
подробности, как они вели хозяйство; несомненно это был самый действенный
способ обезопасить себя, к которому могли прибегнуть те, кому обстоятельства
не позволяли уехать из города и у кого не было вне Лондона подходящего
пристанища: ведь, запертые таким образом, они все равно что уехали за сотни
миль. Не припомню я и чтобы с кем-нибудь из членов таких семей приключилась
беда. Среди таких семейств особенно примечательны были голландские купцы,
которые превратили свои дома в малюсенькие осажденные крепости и не
разрешали никому ни выходить из домов, ни входить, ни даже приближаться к
ним; особенно запомнился мне один такой дом в глубине двора на
Трогмортон-стрит, выходящий фасадом на Дрейперс-Гарденс {142}.
Но возвращаюсь к зараженным семьям, запертым в собственных домах
городскими властями. Их бедственное положение невозможно даже описать; и
именно из этих домов мы чаще всего слышали самые ужасные вопли и плач
бедняг, запуганных до смерти бедственным состоянием их ближайших
родственников и ужасом самого пребывания в заточении.
Я вспоминаю - и пока я пишу об этом, кажется, будто я даже слышу звуки
ее голоса, - об одной женщине, которая располагала довольно значительным
состоянием и жила вместе с единственной дочерью, девушкой лет девятнадцати.
Они были хозяевами всего дома. Молодая девушка, ее мать и служанка по
каким-то делам (не помню точно каким) выезжали за границу. И дом их не был в
числе запертых домов; но часа через два после возвращения молодая леди
пожаловалась на недомогание; еще через четверть часа ее вырвало и началась
страшная головная боль.
- Боже милостивый! - воскликнула ее мать в страшном испуге. - Не дай
моему ребенку заболеть!
Головная боль у девушки нарастала, мать распорядилась согреть постель,
уложить несчастную и приготовить белье, чтобы она пропотела, - обычный
способ лечения, применяемый при первых же признаках болезни.
Пока постель проветривали, мать раздела девушку, положила ее на кровать
и стала осматривать со свечой в руках; она тут же обнаружила роковые
признаки на внутренней стороне ляжек. Мать, не в силах сдержаться, уронила
свечу и так жутко вскрикнула, что этот крик вселил бы ужас и в самое
отважное сердце; крик этот был не единственный: горе лишило ее разума;
сначала она упала в обморок, потом очнулась и стала бегать по всему дому,
вверх и вниз по лестнице как полоумная (да она и была полоумная!) и
продолжала кричать и рыдать несколько часов кряду, лишившись рассудка; мне
говорили, что она так и не пришла в себя. Что же касается девушки, то она
фактически была уже трупом к тому моменту, так как гнойники, вызвавшие пята,
распространились по всему телу; не прошло и двух часов, как она умерла. А ее
мать голосила в течение нескольких часов, не зная о смерти своего ребенка.
Это было давно, и я могу ошибиться, но, кажется, мать так и не пришла в себя
и умерла недели через две-три после гибели дочери.
Это случай исключительный, и так как он был мне хорошо известен, я и
рассказал о нем во всех подробностях; но было несметное число похожих
случаев, и еженедельная сводка почти всегда упоминала об одном-двух
"испуганных", то есть, можно сказать, "напуганных до смерти". Но кроме тех,
кто действительно умер со страху, было огромное число людей, потерявших от
страха рассудок, или память, или дар речи. Но возвращаюсь к запертым домам.
Одни, как я уже говорил, выбирались из запертых домов хитростью, другие
же подкупали сторожей, предлагая им деньги, чтобы те выпустили их потихоньку
ночью. Признаюсь, я считал тогда, что это самый невинный из подкупов; и мне
представлялось жестоким наказание трех сторожей, которых публично высекли
прямо на улице за то, что они выпустили людей из запертых домов.
Но, несмотря на эти строгости, деньги все же действовали на бедняг, и
многие семьи смогли таким образом "сделать вылазку" и избавиться от своего
заточения; но так по большей части поступали те, кому было где укрыться;
хотя по дорогам передвигаться стало трудно, оставалось все же множество
способов отступления, и, как я уже говорил, немало людей имели палатки; они
разбивали их в поле, спали на соломе и, имея при себе достаточный запас
провизии, жили как отшельники в кельях, потому что никто не решался к ним
приблизиться; о них рассказывали много историй и смешных и трагических; и
некоторые из тех, кто жили как странствующие паломники в пустыне, как ни
невероятно, избегли гибели благодаря тому, что по собственной воле сделались
изгнанниками, наслаждаясь в то же время большей свободой, чем можно было бы
ожидать.
Я знаю историю двух братьев и их родственника {143}, которые, будучи
все людьми холостыми, не обремененными семьями, задержались в Лондоне и уже
не смогли оттуда выехать; не зная, куда податься, они решили применить
собственный способ уберечься от заразы, способ, на первый взгляд безумный,
но, по сути, столь естественный, что остается только удивляться, почему
другие не прибегли к нему. Их нельзя было назвать состоятельными, но были
они не настолько бедны, чтобы не обзавестись всем необходимым и не иметь
возможности сводить концы с концами; видя, что зараза распространяется, они
решили сделать все возможное и укрыться.
Один из них был солдатом и принимал участие в недавних войнах, а до
того - в боях в Нидерландах; не будучи обучен ничему, кроме военного дела,
да еще после ранения непригодный для тяжелой работы, он какое-то время
подвизался пекарем в Уоппинге и делал сухари для моряков.
Брат его был моряком; он каким-то образом лишился ноги, так что не мог
выходить больше в море и занимался изготовлением парусов в Уоппинге; будучи
хорошим хозяином, он отложил немного денег и был самым богатым из них троих.
Третий был плотником; мастер на все руки, все его достояние заключалось
в ящике с инструментами, с помощью которых он мог в любое время, за
исключением как раз того момента, заработать себе на пропитание, где бы он
ни оказался; жил он около Шэдуэлла {144}.
Все они были приписаны к приходу Степни, в который, как я уже говорил,
зараза пришла в последнюю очередь; и они оставались там, пока не убедились
со всей очевидностью, что чума затихает в западной части города и движется
теперь на восток, то есть в их направлении.
Историю этих троих, если читатель позволит мне ее рассказать от их
имени, не требуя подтверждения деталей и не пеняя за неточности, я сообщу,
насколько смогу подробно, убежденный, что эта история сможет послужить
образцом для подражания любому бедняге в случае общественного бедствия; если
же, по бесконечной милости Божией, не будет к тому повода, история эта все
равно окажется полезной во стольких случаях, что ни у кого не будет
основания сказать, будто от изложения ее не было проку.
Я предваряю всеми этими соображениями мою историю, однако пока что мне
еще многое нужно сказать, прежде чем я покину сцену.
Первое время я свободно ходил по улицам, хотя и старался не подвергать
себя очевидной опасности, если не считать того случая, когда я пошел
посмотреть на огромную яму, которую вырыли на кладбище при церкви в нашем
приходе Олдгейт. Ну и жуткая была яма: я не мог сдержать своего любопытства
и не взглянуть на нее. Насколько могу судить, она была около сорока футов в
длину и пятнадцать - шестнадцать футов в ширину и футов девять глубиной,
когда я впервые заглянул в нее; но говорили, что позднее ее раскопали в
глубину у одного из краев чуть не на двадцать футов, пока не дошли до воды и
не вынуждены были остановиться; кажется, к этому времени в приходе вырыли
несколько таких ям; ведь хоть чума и не торопилась добраться до нашего
прихода, но, когда она все же туда добралась, свирепствовала в приходах
Олдгейт и Уайтчепл сильнее, чем в каком-либо другом районе города.
Я говорил уже, что вырыли несколько ям в других местах по мере того,
как зараза стала распространяться в нашем приходе, особенно же когда по
улицам начали разъезжать погребальные телеги, а произошло это в нашем
приходе не раньше начала августа. В каждую из таких ям опустили по пятьдесят
-шестьдесят трупов, потом стали делать углубления побольше и складывать в
них всех, кого привозили телеги в течение недели; больше тел ямы не вмещали:
ведь зарывать их надо было не менее чем на шесть футов от поверхности, а на
глубине семнадцати-восемнадцати футов начиналась вода. Но сейчас, к
середине сентября, чума уже так разбушевалась, что число похорон в нашем
приходе превысило число похорон в каком-либо другом приходе за истекшее
время; и вот тогда-то распорядились вырыть этот чудовищный котлован - ведь
это, скорее, был котлован, чем просто яма.
Полагали, когда его рыли, что такой ямы хватит на месяц, а то и дольше,
и некоторые даже упрекали церковных старост, что они разрешили такую
чудовищную вещь - будто готовятся похоронить весь приход и тому подобное. Но
время показало, что церковные старосты оценили положение прихода лучше, чем
его жители: яму закончили рыть, полагаю, 4 сентября, и где-то 6 сентября в
ней начали хоронить, а к 20 сентября, то есть ровно через две недели, когда
в нее сбросили 1114 тел, пришлось остановить дальнейшие захоронения, так как
тела лежали уже лишь в шести футах от поверхности. Не сомневаюсь, что в
приходе еще остались старожилы, которые могут это подтвердить и даже
показать лучше, чем я, в какой именно части церковного кладбища находилась
эта яма. Ее границы еще долгие годы были заметны; в длину они шли
параллельно проходу, ведущему от западной стены кладбища к Хаундсдич, и
поворачивали на восток, к Уайтчеплу, проходя мимо гостиницы "Три монашки".
Около 10 сентября любопытство вновь подстрекнуло, точнее, заставило
меня вторично сходить к этой яме - теперь там уже лежало около четырехсот
тел. И мне мало было прийти туда днем, как я сделал в первый раз, - ведь
тогда ничего не увидишь, кроме рыхлой земли, потому что все опущенные в яму
тела немедленно засыпали землей так называемые погребальщики, в прежние
времена их именовали могильщиками; так что я решился идти ночью и
посмотреть, как туда бросают тела.
Существовало строгое распоряжение не подпускать людей к этим ямам, и
все лишь для того, чтобы избежать распространения заразы. А вскоре такое
распоряжение стало еще объясняться и тем, что заболевшие в ожидании скорой
кончины и в беспамятстве бреда нередко подбегали сами к таким ямам,
закутанные лишь в одеяла или лохмотья, и бросались в них, чтобы, как они
говорили, похоронить себя. Не могу сказать, чтобы кому-нибудь разрешали
ложиться туда добровольно, но я слышал, что в Финсбери в приходе Крипплгейт,
к огромной яме, расположенной неподалеку от полей и не обнесенной стеною,
многие приходили, бросались в нее и погибали, даже не засыпанные землей; и
когда подъезжали погребальные телеги с телами, их находили уже мертвыми,
хотя еще не остывшими.
Это немного поможет описать ужасы того времени, хотя нет никакой
возможности передать все это так, чтобы тот, кто не видел всего собственными
глазами, составил бы себе правильное представление, и можно лишь повторять,
что это было очень-очень-очень страшное время, которое словами не описать.
Меня пустил на кладбище мой знакомый, церковный сторож {145}, который в
тот день дежурил; хоть он и не отказал мне в просьбе, однако горячо
советовал не ходить; он строго сказал (это был добрый, разумный и глубоко
верующий человек), что, рискуя, подвергая себя опасности, они выполняют свой
долг и возложенное на них дело, а потому могут надеяться на благополучный
исход; у меня же нет другого побуждения, кроме праздного любопытства,
которое я не стану - он надеется - выдвигать как оправдание своего
рискованного поступка.
Я ответил, что мне было внушение пойти и что, быть может, это будет для
меня назидательным и отнюдь не бесполезным опытом.
- Что ж, - сказал этот славный человек, - если вы решаетесь на риск по
этой причине, во имя всего святого, заходите. Это будет для вас полезнее
всякой проповеди, даже самой лучшей из всех, что вы когда-либо слышали.
Зрелище говорит само за себя (да как громко!) и призывает нас к покаянию. -
С этими словами он открыл калитку и добавил; - Входите, коль вы так хотите.
Речь его слегка смутила мою решимость, так что я какое-то время
помедлил, колеблясь, но тут как раз показались два факела со стороны
Минериз, послышался звук колокольчика, а потом в дальнем конце улицы
появилась погребальная телега, как ее называли; так что, не в силах долее
сдерживать свое желание увидеть все собственными глазами, я вошел. Как мне
сперва показалось, на кладбище никого не было, кроме погребальщиков и
кучера. Но, когда приблизились к яме, заметили мужчину, закутанного в
коричневый плащ; он ходил из стороны в сторону в каком-то полубредовом
состоянии и размахивал руками под плащом, так что погребальщики сразу
столпились вокруг него, приняв его за одного из тех бедняг, которые, как я
уже говорил, обуянные отчаянием либо в бреду, пытаются сами себя похоронить.
Он молча ходил взад-вперед и лишь глубоко вздыхал, будто сердце его
разрывалось от горя, потом дважды громко простонал.
Когда погребальщики подошли к нему, обнаружилось, что он не из тех, кто
доведен до отчаяния болезнью (о них я уже упоминал), и не повредился в уме,
но погружен в глубочайшую скорбь, ибо жену и детей его как раз привезли на
телеге, а он шел за нею, предавшись горю. Он оплакивал их всем сердцем - это
было ясно, - но держался как подобает мужчине, не давая воли слезам, и,
спокойно возражая погребальщикам, просил оставить его в покое, сказал, что
хочет лишь посмотреть, как тела опустят в яму, а потом уйдет; так что они
перестали докучать ему. Но как только телега подъехала и тела стали без
разбору сбрасывать в яму, что было для него неожиданностью (ведь он
надеялся, что каждого пристойно опустят в могилу, хотя позднее ему
объяснили, что это не имеет смысла), повторяю, как только он увидел все это,
он, не в силах долее сдерживаться, зарыдал в голос. Он что-то сказал, мне не
удалось расслышать, что именно потом отошел на несколько шагов в сторону и
лишился чувств. Погребальщики подбежали и подхватили его; вскоре он пришел в
себя, и его отвели в таверну "Сорока" в конце Хаундсдич, где, кажется, его
знали и обещали о нем позаботиться. Уходя, он еще раз заглянул в яму, но
погребальщики так быстро забросали тела землей, что, хотя свету было
достаточно - фонари со свечами внутри, установленные по краям ямы {146} на
кучах земли, горели всю ночь штук по семь-восемь, а то и больше, - ничего
нельзя было разглядеть.
Это было душераздирающее зрелище, и произвело оно на меня не меньшее
впечатление, чем на его участников; другая же сцена была жуткой и
устрашающей: в телеге было шестнадцать-семнадцать трупов; одни - закутанные
в полотняные простыни, другие - в лохмотья, некоторые были почти что голые
или так небрежно укутаны, что покровы слетели, когда их бросали с телеги, и
теперь они лежали в яме совершенно нагими; но дело было не столько в них как
таковых или в непристойности их вида, а в том, что столько мертвецов свалено
вместе в братскую могилу, если можно так выразиться, где без разбору богачи
и бедняки лежали рядом; другого способа хоронить не было - да и не могло
быть, так как невозможно было заготовить гробы для стольких людей, сраженных
внезапной напастью.
О погребальщиках рассказывали с возмущением, что если тело отдавали им
пристойно запеленутое, как тогда выражались, то есть укутанное в саван с
головы до пят, как это нередко бывало, причем на саван шло хорошее полотно,
так повторяю: утверждалось, будто погребальщики настолько озверели, что
стаскивали саван в телеге и спускали тело в могилу голым. Но так как я не
могу представить себе, чтобы христиане были способны на такой грех, и так
как в то время было много самых чудовищных слухов, я могу только
пересказывать их, не ручаясь за достоверность.
Бесчисленные рассказы ходили также о жестокости сиделок, ухаживающих за
больными, о том, как они приближали фатальный исход для тех, за кем брались
ухаживать. Но я еще расскажу об этом в свое время.
Меня действительно потрясло это зрелище; оно буквально подкосило меня;
я ушел с сокрушенным сердцем и с таким отчаянием в мыслях, что его
невозможно и описать {147}. Как раз когда я вышел с церковного двора и
свернул на улицу, ведущую к моему дому, я увидел еще одну телегу с факелами
и человека с колокольчиком, идущего перед ней; она заворачивала с
Хэрроу-Элли в Мясной ряд {148} и была, полагаю, тоже битком набита трупами;
направлялась она прямо к церкви. Я чуть помедлил, но у меня не хватило духу
возвратиться обратно и присутствовать при еще одной тягостной сцене, так что
я пошел прямо домой, где с благодарностью предался размышлениям о том,
какого риска я избежал, поскольку я надеялся, что не заразился, как оно и
оказалось в действительности.
И тут я вновь вспомнил о горе того бедняги и не мог сдержать слез,
размышляя о нем и сокрушаясь, быть может, не менее, чем он сам; и так
угнетали меня мысли о нем, что, не сдерживаясь долее, я снова пошел на
улицу, в таверну "Сорока", решившись разузнать о нем.
Был уже час ночи, однако несчастный джентльмен все еще находился в
таверне. Хозяева ее - люди вполне благожелательные, приветливые и
воспитанные - и в эти тяжелые времена не закрывали своего заведения,
продолжая торговлю, хотя и не так бойко, как раньше; но у них повадилась
собираться одна омерзительная компания; эти люди, невзирая на весь ужас того
времени, сходились в таверне ежевечерне, вели себя все с той же буйной и
шумной невоздержанностью, к которой привыкли в прежние дни, и держались
столь вызывающе, что даже сами хозяева заведения стали стыдиться, а потом и
побаиваться их.
Они обычно располагались в комнате, выходящей на улицу, засиживались
допоздна, пока телега с трупами, направлявшаяся к Хаундсдич, не показывалась
в конце улицы; когда она приближалась к таверне и можно было расслышать звон
колокольчика, они распахивали окна и выглядывали наружу; если же, как это
часто случалось, на улице или под окнами, когда проезжала телега, слышались
причитания, они обычно отпускали непристойные шуточки и насмехались над
людьми, особенно если те молили Господа сжалиться над ними, как это многие
делали в те времена, проходя по улицам.
Когда туда принесли беднягу, о чем я уже говорил, эти джентльмены,
потревоженные шумом, поначалу с возмущением набросились на хозяина за то,
что тот разрешил притащить подобного типа, как они выразились, к ним сюда
прямо из могилы. Но когда им объяснили, что человек этот живет по соседству,
что он совершенно здоров и лишь сражен бедствиями, обрушившимися на его
семейство и тому подобное, их раздражение вылилось в насмешках над беднягой
за его печаль по жене и детям и в поддразнивании, почему у него не хватило
смелости тоже броситься в яму и отправиться на небо всей компанией, как они
выразились, добавляя при этом всяческие ругательства и даже богохульства.
За этим-то мерзким занятием я и застал их, вернувшись в таверну; и,
насколько я мог понять, хотя бедняга сидел молча, тихий, безучастный и
погруженный, несмотря на их нападки, в свое горе, он все же был удручен и
обижен такими речами. Так что я слегка одернул насмешников, будучи хорошо
знаком с их повадками и даже зная двух из них лично.
Те тут же набросились на меня с ругательствами и проклятиями; спросили,
почему я не лежу спокойно в могиле, когда столько порядочных людей почиет на
кладбище; или почему не сижу я дома и не молю Небо, чтоб за мной не приехала
погребальная телега, и тому подобное.
Я был весьма изумлен наглостью этих людей, хоть отнюдь не напуган их
обращением. Однако я сдержался. Я сказал, что хотя и плюю на их попытки (как
и на попытки любого другого) упрекнуть меня в бесчестии, однако признаю, что
многие более достойные, чем я, люди были унесены в могилу по суровому суду
Господа нашего. А отвечая конкретно на их вопрос, полагаю, что я был
милостиво спасен Господом, чье имя они поносят и поминают всуе, среди
множества причин, одному Богу ведомых, еще и для того, в частности, чтобы
мог я одернуть их за дерзость и наглость их поведения в такое ужасное время,
особенно же за насмешки и издевательства над честным джентльменом, их
соседом (некоторые из них знали его лично), сраженным горем, как им
прекрасно известно, из-за утрат, постигших, по воле Божией, его семью.
Не могу сейчас точно припомнить, какими именно безбожными,
возмутительными насмешками встретили мои слова эти люди, подогретые, похоже,
и тем, что я отнюдь не испугался и свободно выражал свое мнение. Да если бы
и припомнил, не стал бы обременять ими свой рассказ: это были ужасные
проклятия, божба и ругательства, которые в те времена даже самые дурные люди
из низов не решились бы произнести; ведь, если не считать таких негодяев,
как эти, даже самые жалкие отщепенцы в те времена имели страх Божий,
чувствуя над собой могущественную длань, способную в любую минуту их
уничтожить.
Но что было хуже всего - в своих дьявольских высказываниях смели они
богохульствовать и вести безбожные речи, высмеивая мое утверждение, что чума
есть карающая длань Господня, вышучивая и грубо поднимая на смех мои слова о
возмездии, будто не Божественное Провидение навлекло на нас столь
разрушительный удар; и называя поведение людей, молившихся при появлении
погребальных телег, нелепым, экзальтированным и наглым.
Я что-то ответил им - то, что мне показалось уместным, - но, видя свое
бессилие положить конец их мерзким речам (они даже удвоили насмешки), я,
преисполнившись гнева и ужаса, ушел прочь, сказав, что длань Правосудия,
простертая над городом, обрушит свою справедливую кару на них и их близких.
Они приняли мои упреки с полнейшим презрением, подвергли меня
величайшему глумлению, на какое были способны, обрушили самые наглые и
оскорбительные издевки за то, что, как они выразились, я читал им проповеди;
все это скорее удручило, чем рассердило меня; и я ушел, мысленно
благословляя Бога за то, что я не смалодушествовал перед ними, пусть даже
они и всячески оскорбили меня в отместку.
Они еще три-четыре дня продолжали вести себя в том же духе, насмехаясь
и издеваясь надо всем набожным и глубокомысленным, а особенно над любыми
попытками объяснить бедствие Божественным Правосудием; мне говорили, что они
по-прежнему измывались над добрыми людьми, которые, несмотря на угрозу
заразы, ходили в церковь, постились и молили Бога не обрушивать на них свой
праведный гнев.
Как я сказал, они продолжали вести себя в том же духе еще три-четыре
дня - полагаю, это длилось не долее, - а потом один из них, как раз тот,
который спросил беднягу, почему он сам не в могиле, был сражен чумой,
посланной Небом, и окончил жизнь самым жалким образом; короче, каждый из них
был брошен в ту огромную яму, о которой я говорил, еще до того, как она
заполнилась, то есть менее чем за две следующие недели.
Люди эти были повинны во многих сумасбродствах, при одной мысли о
возможности которых в такое время человеческая природа должна бы
содрогнуться, и особенно в насмешках и издевательствах надо всем, что им
встречалось богобоязненного, и пуще всего над благочестивым хождением в
церковь и молитвенные дома, чтобы просить у Неба защиты в это время печали;
а так как из таверны, где они собирались, был виден церковный портал, у них
всегда находился повод для безбожного и кощунственного зубоскальства.
Однако незадолго до случая, о котором я рассказал, таких поводов
становилось все меньше, потому что зараза до такой степени разбушевалась в
этой части города, что люди стали бояться посещать церковь; во всяком
случае, количество прихожан сильно уменьшилось. Да и многие священники либо
умерли, либо уехали из города; ведь теперь и вправду нужна была недюжинная
смелость и твердая вера, чтобы в такое время не только оставаться в городе,
но и отваживаться приходить в церковь и исполнять обязанности
священнослужителя перед паствой, часть которой - священник имел все
основания предполагать - уже подхватила заразу; да еще делать это ежедневно
или, как в некоторых церквах, дважды в день.
Правда, люди проявляли исключительное рвение к исполнению религиозных
обрядов; и так как двери церкви были всегда открыты, туда приходили в любое
время, независимо от того, шла служба или нет; люди запирались на отдельных
семейных скамьях и возносили молитвы с огромным воодушевлением и пылом.
Другие собирались в молитвенных домах в соответствии со своими
религиозными взглядами, но все без разбору становились предметом насмешек
тех людей, особенно в начале мора.
Кажется, их одернули за оскорбление религии достойные люди самых разных
убеждений; после чего, да и вследствие бурной вспышки болезни, они уже ко
времени описываемого случая несколько умерили свою грубость, но их
подтолкнула на сквернословие и богохульство суматоха вокруг бедного
джентльмена, когда его принесли; да, возможно, и мое осуждение подлило масла
в огонь; хотя вел я себя, насколько возможно, спокойно, сдержанно, вежливо,
что поначалу было воспринято как трусость и лишь усилило их оскорбления,
хотя позднее они и поняли, что ошиблись.
Я ушел домой опечаленный и удрученный омерзительной порочностью этих
людей, не сомневаясь, однако, что они станут устрашающим примером правосудия
Божия; ибо я смотрел на то мрачное время как на время Божьего возмездия и не
сомневался, что Господь с особой тщательностью избирает сейчас тех, на кого
обрушить гнев Свой; и хоть я полагал, что многие честные люди падут, и уже
пали во время общего бедствия, и что нельзя судить о духовном облике
человека на основании того, пострадал ли он во время всеобщего уничтожения
или нет, однако, повторяю, казалось неоспоримым, что Бог не одарит Своею
милостию столь открытых Своих врагов, которые оскорбляли имя Его, отрицали
Его возмездие и насмехались над верой и верующими в такое время; нет, даже
если бы Он, по милости Своей, и отпустил им грехи в другое время: ведь
сейчас наступил день гнева Божия, день испытания, почему и пришли мне на ум
слова Иеремии (глава 5, стих 9): {149} "Неужели Я не накажу за это? говорит
Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?" Повторяю {150},
все эти мысли преследовали меня, и я в ужасе вернулся домой, удрученный
порочностью этих людей; просто в голове не укладывалось, что можно настолько
закоснеть в грехах, чтобы так оскорблять Бога, Его служителей, Его
почитателей, в то время как Он обнажил меч свой, дабы покарать и их самих, и
весь народ.
Не буду отрицать, поначалу я был сильно разгневан, но гнев этот
объяснялся не оказанным лично мне отпором, а ужасом перед их кощунственными
речами. Но все же я сомневался - не примешивалось ли здесь и личной обиды,
ведь они бросили мне столько оскорбительных слов, бросили прямо в лицо; и
через некоторое время, вернувшись домой с этим тяжким грузом на душе, я лег
в постель (спать в ту ночь я не мог) и самым смиренным образом поблагодарил
Господа за спасение от великой опасности, которой я подвергался, настроился
на торжественный лад и от всей души стал молиться за этих отчаявшихся
несчастных, прося Бога помиловать их, открыть им глаза и даровать им
смирение.
Тем самым я не только исполнил свой долг, а именно - помолился за тех,
кто дурно обошелся со мною, - но и подверг допросу собственное сердце и, к
своему удовлетворению, убедился, что нет в нем места обиде за то, что лично
меня оскорбили; и я всем советую поступать тем же способом, если они хотят
отделить радение за честь Господню от страстей, порожденных личной обидой.
Но я должен вернуться назад, к событиям, о которых узнал в дни того
испытания, особенно же ко времени, когда стали запирать дома в первый период
распространения заразы; потому что, пока болезнь не достигла еще наивысшей
точки, у людей было больше досуга обмениваться наблюдениями, чем позднее:
ведь, когда дошло до предела, люди более не общались друг с другом, как
раньше.
Я уже говорил, что в период запирания домов нередки были нападения на
сторожей. Что до солдат, то их совсем не осталось: та незначительная
гвардия, которою тогда располагал король, - ничтожная по сравнению с
позднейшими временами, - была рассредоточена: часть ее находилась в Оксфорде
вместе с двором, часть - в казармах в отдаленных районах страны; в Лондоне
оставалось небольшое подразделение, выполнявшее свои обязанности при Тауэре
и Уайтхолле {151}, но оно было весьма малочисленно. Не уверен и в том, что в
Тауэре была какая-либо иная охрана, кроме караульных, как их называли (они
стояли у ворот в мундирах и шапках, таких же, как у йоменов в гвардии), не
считая обычных стрелков числом в 24 человека и офицеров, которых называли
латниками, направленных присматривать за складом боеприпасов. Собрать
какие-либо обученные отряды тоже не было никакой возможности. Если бы
командиры в Лондоне и Миддлсексе приказали бить в барабаны и созывать
милицию {152}, думаю, ни один отряд, невзирая ни на какие последствия, не
собрался бы.
Все это усиливало неуважительное отношение к сторожам, а возможно, и
порождало случаи насилия. Я упоминаю об этом, чтобы заметить, что ставить
дозорных и запрещать людям выходить наружу, во-первых, не приносит ожидаемых
результатов, так как люди все равно вырываются, либо хитростью, либо силой,
стоит только им захотеть; во-вторых, таким образом выходят на волю люди по
большей части зараженные, которые в своем отчаянном положении бросаются из
одного места в другое, не считаясь с тем, что несут заразу; это-то,
возможно, и породило утверждение, будто заразившимся хочется заразить и
других, хотя в действительности это ложное утверждение.
Мне прекрасно известно - таких случаев немало, и я могу рассказать о
них, - когда порядочные, набожные, благочестивые люди, заболев, настолько
боялись заразить других, что запрещали даже членам собственных семей
приближаться к ним, в надежде, что тех минует болезнь, более того, отошли в
мир иной, так и не попрощавшись с ближайшими родственниками, чтобы не
подвергать их опасности и не оказаться причиною их болезни. Если же и были
случаи, когда зараженные не думали о вреде, который они причиняют другим, то
одна из причин, хотя и не главная, заключалась в том, что, когда они
вырывались из запертых домов, то, доведенные до крайности отсутствием пищи и
крова, вынуждены были скрывать свое состояние, тем самым становясь невольным
источником заразы для тех, кто оставался в неведении и не берегся.
Я думал тогда, и сейчас остаюсь того же мнения, что запирание домов и
удерживание людей силой, как в тюрьме, в их собственных жилищах, не
приносило плодов, как я уже говорил. Более того, полагаю, что это даже
наносило вред, так как заставляло отчаявшихся людей переходить с места на
место, разнося чуму, тогда как при других обстоятельствах они спокойно
опочили бы в собственных постелях.
Помню одного горожанина, который, вырвавшись таким образом из дома на
Олдерсгейт-стрит {153} или где-то рядом, пошел по дороге в сторону
Излингтона; он попытался остановиться в "Ангеле", потом в "Белой лошади"
(гостиницах, известных и сейчас под этими названиями), но ему отказали;
тогда он пришел в "Пятнистого быка" (эта гостиница тоже сохранила свое
название). Он спросил комнату только на одну ночь, утверждая, что
направляется в Линкольншир, и заверил всех, что совершенно здоров и не
источает заразы: в тот момент болезнь внешне почти не проявилась.
Ему объяснили, что свободных помещений у них нет, кроме одной
комнатушки с кроватью на чердаке, но и ее они могут сдать лишь на одну ночь,
так как на следующий день ожидают нескольких гуртовщиков со скотом; если
такие условия его устраивают, он может остаться на ночлег, сказали ему, на
что он и согласился. Тогда вместе с ним наверх послали служанку со свечой
показать помещение. Одет он был прекрасно и казался человеком, которому едва
ли пристало ночевать на чердаке. Войдя в комнату, он глубоко вздохнул и
сказал служанке:
- Не часто приходилось мне ночевать в такой спальне!
Однако служанка вновь заверила его, что лучшего помещения в доме нет.
- Что ж, - сказал он, - как-нибудь перебьюсь, сейчас такие страшные
времена. Ведь все его только на одну ночь!
Тут он присел на кровать и попросил служанку принести ему пинту
подогретого эля {154}. Соответственно, служанка пошла за элем, но какая-то
суматоха в доме отвлекла ее настолько, что она, занявшись другими делами,
совершенно забыла о поручении и так и не поднялась к нему в тот вечер.
На следующее утро, когда джентльмен не спустился, кто-то спросил, что с
ним, у служанки, которая провожала его накануне в его комнату. Та ахнула:
- Господи, я совсем о нем забыла! Ведь он просил принести подогретого
эля, но это напрочь выпало у меня из головы!
Тогда уже не служанку, а кого-то еще послали посмотреть, что там
происходит, и тот, поднявшись, обнаружил, что джентльмен умер, и труп лежит
поперек постели и почти похолодел; одежда на нем была сорвана, челюсть
отвисла, глаза выпучены самым жутким образом, одна рука судорожно сжимала
покрывало; видно было, что умер он вскоре после того, как ушла служанка;
возможно, если бы она вернулась с элем, то застала бы его уже мертвым на
кровати. Страшная тревога поднялась в доме: до этого несчастья гостинице не
угрожала непосредственная опасность, теперь же зараза пришла в дом и
немедленно распространилась и на соседние жилища. Не помню, сколько людей
погибло в самой гостинице, но, кажется, служанка, которая поднималась
наверх, тут же слегла просто с испуге, а за нею и еще несколько человек. Во
всяком случае, если за неделю до того в Излингтоне от чумы умерло только
двое, то неделей позже было зарегистрировано 16 смертей, из них 14 от чумы.
Это была неделя с 11 по 18 июля.
Была лишь одна уловка, к которой прибегали многие семьи, когда в их дом
приходила зараза, а именно: при первых же признаках тревоги они уезжали из
Лондона и гостили где-нибудь у друзей; при этом обычно они оставляли дом и
имущество на попечение родственников или соседей. В других случаях дома
накрепко запирались, на дверях вешали замок, окна заколачивались сосновыми
досками, и заходить вовнутрь разрешалось лишь городской инспекции; но и ее
проверки были крайне редкими.
Считалось, что в Сити и его окрестностях, включая приходы за городскими
стенами {155} и пригороды в Сарри, а также район на другой стороне реки,
называемый Саутуэрком, было не менее 10 000 брошенных домов. И это не считая
арендуемых квартир и отдельных членов семей, уехавших из города; таким
образом, было подсчитано, что город покинуло не менее двухсот тысяч человек.
Но я еще остановлюсь на этом позднее. Здесь же упоминаю об этом для того,
чтобы сообщить, что те, кто имел в своем распоряжении по два дома, могли
поступить следующим образом: если кто-либо из членов их семьи заболевал,
хозяин дома, прежде чем сообщить об этом наблюдателям или городским властям,
немедленно переселял всех остальных членов семьи, включая детей и слуг, в
другой дом, после чего сообщал о случившемся наблюдателям, нанимал сиделку
или сиделок, а потом еще кого-нибудь, чтобы наблюдать за домом (за деньги
это вполне возможно было сделать) в случае, если заболевший умрет.
Нередко это спасало жизнь всей семье, которая, останься она запертой в
доме с заразным больным, неизбежно погибла бы. Но, с другой стороны, в этом
были и свои неудобства: ведь страх оказаться запертым заставлял многих
убегать вместе со всем семейством, в числе которого могли быть и люди уже
заразившиеся, пусть даже это внешне было и незаметно; при полной свободе
передвижения люди эти вынуждены были скрывать свое состояние, а подчас они и
сами не подозревали о нем; так что они заражали других и распространяли
болезнь самым чудовищным образом, о чем я еще расскажу.
А теперь мне хотелось бы сделать несколько замечаний, возможно,
полезных для читателей, если им выпадет на долю столкнуться с подобным
ужасным испытанием. 1) Зараза обычно проникала в дома через слуг, которых
посылали за всем необходимым, а именно: за пищей, лекарствами, к булочнику,
лавочнику, в пивную и прочее; волей-неволей ходя по улицам, заглядывая в
магазины, на рынки и в тому подобные места, слуги нет-нет, да встречались с
больными людьми, подхватывали их зловонное дыхание и несли его домой, в
семью. 2) Большим упущением было то, что в таком огромном городе существовал
лишь один чумной барак: ведь будь в нем вместо одного барака за
Банхилл-Филдс {156}, где могло разместиться не более двухсот-трехсот
человек, несколько чумных бараков, рассчитанных каждый на тысячу человек, да
так, чтобы там не приходилось лежать по двое в одной кровати и не стояло по
две койки в одной палате, и если бы каждый хозяин дома, обнаружив, что его
слуга заболел, должен был бы отослать его в ближайший чумной барак (с его
согласия, разумеется, а многие были на это согласны), и если бы наблюдатели
поступали таким же образом с бедняками, когда те подхватывали заразу, -
повторяю, если бы все это делалось в тех случаях, когда люди соглашались на
это добровольно (никак не иначе!), вместо того чтобы запирать дома, то
убежден теперь, как и тогда, что погибло бы на несколько тысяч меньше
народу. Ведь было замечено, - и я могу привести несколько случаев только из
того, что мне было лично известно, - если заболевшего слугу или отсылали
куда-либо, или остальные переселялись в другое место, то семья таким образом
спасалась, тогда как, если дом запирали, когда в нем кто-то заболевал,
погибали все члены семьи, и погребальщикам приходилось заходить внутрь,
чтобы вынести трупы, так как некому было даже поднести их к дверям. 3) Это
приводит меня к бесспорному выводу, что болезнь распространялась при помощи
инфекции, то есть при посредстве определенных токов воздуха или испарений,
которые врачи называют "миазмами"; они распространяются через дыхание, или
пот, или через нарывы больных, или еще каким-то способом, неизвестным даже
врачам, при котором миазмы воздействуют на каждого, подошедшего к больному
на определенное расстояние, немедленно проникают в жизненные органы здоровых
людей, выделяют в крови определенный фермент и приводят людей в крайне
возбужденное состояние; и так только что заразившиеся передают тем же путем
заразу другим. Могу привести несколько примеров, которые убедят всякого, кто
хоть раз над этим задумывался; не без удивления узнал я, что теперь, когда
мор прекратился, некоторые утверждают, что это был Гром Небесный, который
прямо разил того или иного человека, других же не трогал, - к подобным
утверждениям отношусь я с презрением и считаю их порождением невежества и
религиозной экзальтации; то же могу сказать и про мнение, высказывавшееся
некоторыми, будто зараза переносится только по воздуху с помощью насекомых
или каких-то невидимых существ, которые попадают в организм с дыханием или
даже через поры, и далее выделяют очень сильный яд или откладывают ядовитые
яйца, которые попадают в кровь и таким образом отравляют организм; все эти
рассуждения полны ученых благоглупостей, что неоднократно подтверждалось на
опыте; но я еще поговорю об этом более подробно в другом месте.
Здесь же скажу, что ничто не было столь пагубно для обитателей города,
как их же собственная лень и нерадивость, когда, уже предупрежденные о том,
что грядет испытание, они не озаботились запастись продовольствием и другими
необходимыми вещами, имея которые могли бы жить уединенно, не покидая
собственных домов, как некоторые и делали; причем эти люди своей
предусмотрительностью, как я уже говорил, в большинстве случаев убереглись
от опасности.
Да и очерствели люди настолько, что не стеснялись, как это было
вначале, заговаривать с другими, когда болезнь настигала их, нет, - хотя они
и прекрасно знали, что больны.
Признаюсь, я был одним из тех непредусмотрительных, кто не имел никаких
запасов, так что слуги мои были вынуждены выходить за каждой пустяковой
покупкой в пенни и даже в полпенни, как это было и до чумы; так продолжалось
и после того, как я на опыте убедился в собственной глупости; поумнел я с
таким опозданием, что еле успел обеспечить себя на месяц самым необходимым.
Мои домочадцы состояли лишь из старушки, которая вела хозяйство,
горничной и двух подмастерьев; {157} по мере того как чума набирала силу в
наших кварталах, я стал с грустью размышлять о том, что делать и как себя
вести. Мрачные картины, наблюдаемые на улице, куда бы я ни шел, переполняли
меня ужасом и страхом заразы, который и сам по себе был ужасен, особенно вот
в каком отношении. Вздутия, обычно на шее и в паху, когда затвердевали и не
прорывались, становились столь болезненными, что могли сравняться лишь с
самой изощренной пыткою; некоторые, не в силах выносить мучений,
выбрасывались из окон, или стрелялись, или кончали с собой еще каким-нибудь
способом; я видел несколько таких трупов. Другие, не в силах сдержаться,
заглушали боль безумным воем; и столь громкие и жалобные крики раздавались
на улицах, что кровь стыла в жилах, особенно если учесть, что та же кара
могла в любой момент пасть и на твою голову.
Не могу не признаться, что решимости у меня теперь сильно поубавилось;
сердце уходило в пятки, и я горько оплакивал собственное безрассудство.
Когда, выходя на улицу, я сталкивался со сценами, которые только что описал,
повторяю, я горько оплакивал свое безрассудное решение остаться в городе.
Часто жалел я о том, что предпочел остаться и не уехал с братом и его
семьей.
Запуганный всеми этими жуткими картинами, я иногда возвращался домой с
решением больше не показываться на улице; временами я в течение трех-четырех
дней придерживался принятого решения, проводил время в истовых выражениях
благодарности за свое здравие и здравие моих домочадцев, в самом покаянном
настроении ежедневно взывая к Богу, служа Ему постом, самоуничижением и
благочестивыми размышлениями. В эти же периоды я читал книги и вел свои
записи, помечая все, что ежедневно со мною случалось, на основе которых
впоследствии я написал большую часть сего труда прежде всего ту, где
повествуется о внешних событиях. Что же касается моих размышлений, то
оставляю их для личного пользования и надеюсь, что они не будут обнародованы
ни при каких обстоятельствах.
Записал я и еще одни размышления {159} - на темы божественные: это
мысли, которые в то время приходили мне в голову и были для меня большим
подспорьем, но едва ли другим они пригодятся, так что не буду более
упоминать о них.
Был у меня близкий друг - доктор по фамилии Хитт; {160} я частенько
посещал его в те мрачные дни и весьма благодарен ему за советы и указания,
как лучше уберечься от заразы, когда ходишь по улицам (а он заметил, что я
нередко это делаю), и что держать во рту, когда выходишь из дома. Он тоже
довольно часто навещал меня, и, так как был он таким же хорошим
христианином, как и хорошим врачом, беседы с ним были великой поддержкой для
меня в самые страшные времена.
Было начало августа, и чума жутко свирепствовала в тех местах, где я
жил; доктор Хитт, зайдя навестить меня и обнаружив, что я столь часто
решаюсь выходить на улицу, пылко убеждал меня запереться в доме вместе с
домочадцами и никому не разрешать выходить; наглухо закрыть все окна и
ставни, опустить занавеси и ни при каких обстоятельствах не открывать их; но
до того хорошенько прокурить те комнаты, где окно или дверь пришлось бы
открывать, используя для этого смолу, серу, порох и тому подобное; так мы и
поступили; но, поскольку у меня не было запаса провизии для столь
уединенного житья, полностью запереться в доме было невозможно. Однако я
попытался, хоть и с большим опозданием, сделать кое-какие приготовления,
прежде всего, запастись всем необходимым для выпечки хлеба и приготовления
пива; я пошел и купил два мешка муки, так что в течение нескольких недель мы
выпекали хлеб сами, в печке; потом я купил солоду и наварил столько пива,
сколько поместилось в имевшихся у меня бочонках {161}, то есть недель на
пять-шесть; я также сделал запас подсоленного масла и чеширского сыра; {162}
вот только мяса у меня не было, а чума так свирепствовала среди мясников и
на бойнях, на противоположной стороне нашей улицы, где они жили, что ходить
туда было опасно.
И здесь хочу вновь повторить, что необходимость выходить из домов за
провизией была в значительной степени причиной бедствия всего города: ведь
люди при этом так или иначе подхватывали заразу, и даже сама пища зачастую
бывала опасной, во всяком случае, у меня есть все основания так полагать; и
потому я не могу повторить с удовлетворением то, что уверенно утверждалось
многими - будто торговцы, привозившие в город провизию, никогда не
заражались. Я твердо знаю, что мясники из Уайтхолла, где было наибольшее
количество боен, страшно пострадали, до такой степени, что лишь немногие из
их лавок продолжали работать, да и те забивали теперь скот в Майл-Энде {163}
и привозили его на рынок на лошадях.
Однако бедняки не могли сделать большого запаса провизии, и им по
необходимости приходилось либо самим ходить на рынок, либо посылать туда
слуг и детей; а так как потребность эта возникала ежедневно, то на рынок
стекалась масса больных людей, и пришедшие туда здоровые разносили смерть по
домам.
Правда, люди прибегали ко всевозможным предосторожностям. Когда
покупалась часть разрубленной туши, мясо получали не из рук продавца, а
покупатель сам снимал его с крючка. В свою очередь, и мясник не прикасался к
деньгам - их опускал покупатель в миску с уксусом, специально для этого
приготовленную. Покупатели всегда имели при себе мелкую монету, чтобы в
любой момент быть готовыми расплатиться без сдачи. В руках они постоянно
держали флаконы со всякого рода ароматическими веществами; одним словом, все
возможные меры предпринимались; однако бедняки даже этого не могли себе
позволить, им приходилось постоянно рисковать жизнью.
В связи с этим мы то и дело слышали самые мрачные истории. То человек
упадет замертво прямо посреди рынка {164}, потому что многие заболевшие и не
подозревали, что больны, до тех пор пока гангрена не поражала основные их
органы, после чего они умирали почти мгновенно. Поэтому множество людей
умирало скоропостижно прямо на улицах, без какого-либо предупреждения;
другие успевали добраться до ближайшего ларька или магазинчика, а то и
просто до крыльца, садились и тут же испускали дух, как я уже говорил.
Такие случаи стали столь часты, когда чума разбушевалась, что стоило
выйти на улицу, как обязательно увидишь несколько трупов, лежащих прямо на
земле. И если вначале люди останавливались при виде мертвеце и звали
соседей, то позднее никто уже не обращал на них внимания, и если по дороге
нам встречался труп, мы просто переходили на другую сторону и старались
пройти от него подальше; если же это было в узеньком проходе или переулочке,
то поворачивали обратно и искали другого пути; и во всех этих случаях трупы
оставались лежать до тех пор, пока кто-нибудь из городских властей не убирал
их или пока ночью их не поднимали погребальщики на свои телеги. Неустрашимые
люди, исполнявшие эти обязанности, не боялись и обыскивать карманы умерших и
даже снимали одежду с тех, кто был побогаче, унося с собой все, что могли.
Но возвратимся к рынкам. Мясники позаботились о том, чтобы под рукой
всегда были услужающие, готовые, если кто-нибудь падал замертво прямо на
рынке, отвезти труп на ручной тачке прямехонько к ближайшему кладбищу; и
подобные случаи так участились, что не заносились в рубрику "Найдены на
улицах и полях", а лишь причислялись к общей суммарной цифре.
Но теперь разгул болезни достиг таких размеров, что и сами рынки лишь
скудно снабжались провизией, да и покупателей на них по сравнению с прежними
временами стало намного меньше; лорд-мэр распорядился, чтобы селяне,
привозившие в Лондон продукты, останавливались на подступах к городу,
продавали там свои товары и немедля уезжали прочь; и это весьма оживило
сельскую торговлю; теперь селяне продавали свой товар прямо при въезде в
город, а то и просто в полях, особенно в полях около Уайтчепла, в
Спиттлфилдсе, а также в Сент-Джорджис-Филдс {165}, в Саутуэрке, в
Банхилл-Филдс и на огромном поле, называвшемся Вудс-Клоуз около Излингтона
{166}. Туда-то лорд-мэр, олдермены и магистрат посылали своих подручных и
слуг делать закупки для собственных семей, стараясь как можно реже самим
показываться на улицах; другие тоже старались следовать их примеру; так что
селяне охотно приезжали и привозили самые разнообразные продукты, причем
урон они терпели очень редко, что и послужило основанием для утверждения,
будто они чудесным образом уберегаются от заразы.
Что же касается моего маленького семейства, то, запасшись, как я уже
говорил, в достаточном количестве хлебом, маслом, сыром и пивом, я
последовал совету моего друга доктора и заперся вместе с домочадцами,
решившись лучше прожить несколько месяцев без мяса, чем покупать его с
риском для жизни.
Но хоть я и запер своих домочадцев, я не в силах был побороть
собственное неуемное любопытство и совсем не выходить из дома; и, несмотря
на то, что обычно я возвращался в страхе и ужасе, я все же не мог
удержаться, только делал это теперь гораздо реже, чем раньше.
На мне лежала обязанность присматривать за домом брата в приходе
Коулмен-стрит, так как он оставил его на мое попечение; вначале я ходил туда
ежедневно, а потом лишь один-два раза в неделю.
Во время этих выходов навидался я немало мрачных картин, особенно когда
люди падали замертво прямо на улице, наслушался ужасающих женских воплей и
визга, когда больные в агонии, распахнув настежь окна спален, вопили самым
жутким и устрашающим образом. Невозможно описать все разнообразие, в котором
проявлялось страдание этих бедняг.
Как-то, когда я проходил по Тоукенхаус-Ярд в Лоттбери {167}, створка
окна вдруг с шумом открылась прямо над моей головой и какая-то женщина
троекратно взвизгнула, а потом в ужасе закричала: "Ай! Смерть, Смерть,
Смерть!"; неописуемый этот крик исполнил меня таким ужасом, что кровь
буквально застыла у меня в жилах. На улице никого не было видно, из окон
тоже никто не выглянул; люди уже перестали любопытствовать, да и помочь ведь
они ничем не могли. Так что я прошел дальше, к Белл-Элли.
Только я вышел на Белл-Элли, с правой стороны раздались еще более
жуткие крики, хотя кричали где-то в доме; похоже, вся семья была в страшном
смятении; я слышал, как дети и женщины носились по комнатам как полоумные;
вдруг чердачное окно в доме напротив распахнулось, и кто-то спросил:
- Что случилось?
На это последовал ответ:
- Господи! Наш старый хозяин повесился!
Тогда первый спросил:
- Вы уверены, что он скончался?
И получил ответ:
- Да-да, уверен. Скончался и уже похолодел.
Речь шла о купце-олдермене, входящем в Совет, человеке очень богатом.
Не хочу называть его имени, хоть оно мне прекрасно известно, так как это
будет едва ли приятно его семье, которая теперь вновь процветает.
Но это только один случай, а ведь ежедневно в каких-нибудь семьях
происходили самые невероятные и жуткие истории. Люди в разгаре болезни,
испытывая мучительную боль в бубонах, действительно невыносимую, полностью
теряли самообладание, становились полоумными и зачастую накладывали на себя
руки: выбрасывались из окон, стрелялись и прочее; матери в припадке безумия
убивали собственных детей; некоторые просто умирали от горя, другие со
страху или от неожиданного потрясения, вовсе без всякой заразы; некоторые
впадали в идиотизм, другие - в буйство и сомнамбулизм, третьи - в тихое
помешательство.
Боль в затвердевших бубонах была сильнейшей и для многих непереносимой;
а врачи и хирурги мучительным лечением нередко доводили людей до смерти.
Припухлости бубонов сильно затвердевали, и тогда, чтобы они прорвались,
врачи назначали размягчающие примочки и припарки, а если это не помогало,
они резали и вскрывали их самым чудовищным образом. В некоторых случаях
вздутия становились такими твердыми - либо из-за силы болезни, либо из-за
неумеренных припарок, - что никакой инструмент их не брал и приходилось
выжигать их специальными средствами для прижиганий, так что многие умирали,
- доведенные болью до безумия, причем немало людей - во время самой
операции. Некоторые же без должного присмотра накладывали на себя руки, как
я уже говорил. Другие выскакивали на улицу, даже голыми, бежали прямехонько
к реке и, если их не останавливали сторожа, бросались в воду, где только
могли ее найти.
Частенько кровь стыла в жилах от криков и стонов несчастных,
подвергавшихся подобной пытке, однако то был самый действенный метод, потому
что, если затвердения прорывались или, как выражались врачи, "выпаривались",
больной обычно выздоравливал; тогда как те, кто, подобно дочери той
благородной дамы, умирали скоропостижно, как только проявлялись первые
признаки, часто ходили, не подозревая о том, что больны, почти до самого
момента кончины, иногда до тех пор, пока не падали внезапно, как бы
сраженные апоплексическим ударом или приступом эпилепсии. В таких случаях
человек вдруг чувствовал слабость, добирался до любого ближайшего ларька,
скамьи, любого другого подходящего места, а если возможно, то и до дома,
садился и, как я уже говорил, терял сознание и испускал дух {168}. Эти
случаи мало чем отличались от обычной гангрены, а также от смерти в
обморочном состоянии или во сне. Такие люди и не подозревали, что больны,
пока гангрена не распространялась у них по всему телу; даже доктора не могли
обнаружить у них болезнь, пока не проступали на груди или на других частях
тела ее неоспоримые признаки.
В то время рассказывали массу страшных историй о сиделках и сторожах
{169}, которые нанимались ухаживать за больными и ужасно плохо с ними
обращались: морили их голодом, напускали в помещение угарного газа и
всяческими другими мерзкими способами приближали кончину своих подопечных,
то есть, по существу, убивали их; а сторожа, когда их приставляли к
запертому дому, дожидались, чтобы там остался в живых только один человек,
да и тот, вернее всего, больной, врывались внутрь, убивали его и тут же
бросали тело в погребальную телегу! Так что его привозили к яме еще теплым.
Не могу с уверенностью утверждать, что подобные преступления
действительно совершались, но знаю, что двое были посажены за это в тюрьму,
однако они умерли, прежде чем их успели допросить; я слышал, что еще трое,
обвиненные в разное время в подобных убийствах, были оправданы; мне кажется,
что это было не совсем обычное преступление, как некоторые потом не без
удовольствия утверждали; нельзя его назвать и преднамеренным - ведь люди
были доведены до такого жалкого состояния, что не было сил удержаться;
больные редко выздоравливали, и преступникам, возможно, и не приходило в
голову, что они совершают убийство - ведь они были убеждены, что больной все
едино не жилец на этом свете.
Но не отрицаю я и того, что в это жуткое время совершалось страшно
много ограблений и других безобразий. Алчность у некоторых была столь
велика, что они шли на риск ограбления и разбоя, особенно в домах, все
обитатели которых умерли и были свезены на кладбище; они вламывались в дома
любыми способами, несмотря на опасность заразы, забирая даже одежду с
мертвецов и постельное белье с тех кроватей, на которых лежали больные.
Этим, вероятно, объясняется случай с семейством на Хаундсдич, где были
найдены трупы хозяина дома и его дочери (остальные члены семьи, похоже, были
еще до того увезены погребальными телегами), лежащими на полу, совершенно
голыми, каждый в своей комнате, причем белье на кроватях, с которых их, судя
по всему, скинули воры, бесследно исчезло.
Надо заметить, что в этом бедственном положении именно женщины
оказались наиболее отчаянными, бесстрашными и безрассудными, а так как
многие из них нанимались сиделками ухаживать за больными, они совершали
массу мелких краж в домах, где работали; нескольких за это даже публично
наказали плетьми, хотя, возможно, их следовало бы скорее повесить для
острастки других {170}, так как огромное число домов было таким образом
ограблено, пока наконец сиделок не начали нанимать лишь по рекомендации
приходских чиновников; причем каждая такая сиделка бралась на заметку, чтобы
было с кого спросить, если дому, в который она послана, будет нанесен урон.
Однако все эти кражи обычно ограничивались одеждой, постельным бельем,
кольцами или деньгами, которые вверенный им больной мог иметь при себе, а
вовсе не полным ограблением дома; и я могу рассказать об одной такой
сиделке, которая несколько лет спустя на смертном одре искренне каялась в
кражах, что совершила в бытность свою сиделкой и благодаря которым изрядно
обогатилась. Что же касается убийств, то большинство рассказов, кроме
упомянутых выше, были бездоказательны.
Правда, мне говорили о сиделке, которая положила мокрое покрывало на
лицо больному и тем ускорила его смерть; другая уморила молодую женщину, за
которой присматривала, угарным газом, когда та упала в обморок; одни
приканчивали пациентов тем способом, другие - другим; третьи же попросту
морили их голодом. Однако все эти истории казались мне в двух отношениях
весьма сомнительными, так что я не придавал им значения, считая их
порождением запуганных людей, которые в свою очередь пугают других.
Во-первых, где бы мы их ни слышали, место действия рассказа всегда
переносилось в противоположный конец города или другое отдаленное место.
Если вам рассказывали об этом в Уайтчепле, значит, это произошло в
Сент-Джайлсе, Вестминстере или Холборне и его окрестностях. Если же
рассказывали об этом в противоположном конце города, значит, события
происходили в Уайтчепле или где-нибудь в Крипплгейтском приходе. Если же вы
услыхали об этом в Сити, - ну, так тогда это произошло в Саутуэрке, а если в
Саутуэрке - значит, это случилось в Сити и так далее.
Во-вторых, где бы ни произошел тот или иной случай, детали рассказа
всегда совпадали, особенно в истории с покрывалом, положенным на лицо
умирающему, и с угоревшей молодой женщиной, так что для меня, по крайней
мере, было очевидно, что в этих рассказах больше выдумки, чем правды.
Однако должен признать, что все эти истории производили-таки
впечатление на людей, в частности все стали с большей осторожностью
подбирать сиделок, которым поручали заботу о своей жизни, и старались, если
это возможно, брать тех, кто имел рекомендацию; а когда они не могли найти
таковых - ведь готовых на подобные услуги было не очень-то много, - то
обращались в приход.
И здесь опять же труднее всего в те тяжелые времена приходилось
беднякам: ведь, если они заболевали, у них не было ни пищи, ни лекарств, ни
врачей, ни аптекарей, чтобы их лечить, ни сиделок, чтобы ухаживать за ними.
Многие бедняки оказались в самом жалостном и отчаянном положении и погибали,
прося о помощи или просто о пище прямо из окон домов; правда, следует
отметить, что, когда о положении таких людей или семейств докладывали
лорд-мэру, им всегда помогали {171}.
Однако в некоторых домах, даже и не очень бедных, хозяин отсылал жену и
детей из города, увольнял слуг, если они у него были, а потом иногда, чтобы
не входить в лишние расходы, запирался один в доме, где подчас и умирал без
всякой помощи, в полном одиночестве.
Один мой знакомый сосед послал своего подмастерья, юнца лет
восемнадцати, к задолжавшему ему лавочнику с Уайткросс-стрит в надежде
получить деньги обратно. Парень подошел к дому и долго стучался в запертую
дверь; и так как ему показалось, что кто-то ответил изнутри, он подождал, а
потом снова стал стучаться; наконец, на третий раз, он услышал, что кто-то
спускается по лестнице.
И вот к дверям подошел хозяин дома; на нем были штаны и желтая
фланелевая куртка, ночные туфли на босу ногу и белый ночной колпак, а на
лице, как сказал подмастерье, "лежала печать смерти".
- Ради чего ты побеспокоил меня? - спросил лавочник, открыв дверь.
Парень, хоть и немного напуганный, объяснил:
- Я пришел от такого-то, хозяин прислал меня за деньгами - какими, вы
сами знаете.
- Хорошо, мой мальчик, - ответил живой мертвец, - загляни на обратном
пути в Крипплгейтскую церковь и попроси их звонить в колокол. - С этими
словами он закрыл дверь, поднялся наверх и умер в тот же день, - да что там,
в тот же час после его ухода. Обо всем этом рассказал мне сам молодой
человек, так что у меня есть все основания этому верить. Произошло же это,
когда чума еще не разгулялась в полную силу. Полагаю, что это случилось в
конце июня; тогда еще не разъезжали погребальные телеги и по усопшим звонили
в колокола, чего к июлю уже не делали, во всяком случае, в этом приходе, так
как к 25 июля в неделю умирало по 550 человек и более, и хоронить по всей
форме, будь то богатые или бедные, уже не было никакой возможности.
Я говорил выше, что, несмотря на ужасное бедствие, множество воров
шныряло в поисках поживы, особенно женщины. Однажды, часов в одиннадцать
утра, я пошел к дому брата на Коулмен-стрит, как я это делал частенько,
взглянуть, все ли там в порядке.
Перед домом был небольшой дворик с кирпичной стеной, воротами и
несколькими складскими помещениями, где находились всякого рода товары; в
одном из таких помещений лежали упаковки со шляпками; это были женские
шляпки с высокой тульей, они прибыли из провинции и предназначались для
экспорта, куда именно - я не знаю.
Почти подойдя к дому брата со стороны Суон-Элли {172}, я с удивлением
заметил трех-четырех женщин, всех в одинаковых шляпках с высокой тульей; и,
как я позднее припомнил, по крайней мере у одной из них было несколько таких
шляп в руках; но так как они не выходили из дома моего брата и так как я не
знал, что у него имеется подобный товар, то я ничего не сказал им и лишь
перешел на другую сторону улицы, чтобы пройти от них подальше, как обычно и
поступал в те времена из страха заразы. Но, когда я подошел к воротам, мне
повстречалась еще одна женщина с несколькими шляпками, выходящая со двора.
- Что вы здесь делаете, сударыня? - спросил я.
- Да там много народу, - отвечала она, - и у меня, собственно, дел
здесь не больше, чем у остальных.
Я заторопился к воротам и не стал с ней долее разговаривать. С этим она
и ушла. Но когда я вошел в ворота, то увидел еще двух, идущих по двору к
выходу со шляпками на головах и шляпками под мышками. Тогда я толкнул
ворота, и пружинный замок на них защелкнулся, после чего повернулся к
женщинам и воскликнул:
- Признавайтесь-ка, что вы тут делаете?
С этими словами я отнял у них шляпки. Одна из женщин, которая, судя по
ее внешности, не была воровкой, сказала:
- Не спорю, мы поступили дурно, но нам сказали, что это бесхозные
товары. Пожалуйста, возьмите их назад и взгляните туда - там еще много таких
посетителей.
Она плакала, казалась очень расстроенной, так что я, взяв у нее шляпки,
открыл ворота и выпустил обеих, так как мне стало жаль этих женщин; но когда
я взглянул, как она советовала, на склад, там оказалось еще пять-шесть
человек, все женщины и все примеряли шляпки так спокойно и беззаботно, будто
они находились в магазине и покупали их за деньги.
Я был немного напуган, не только тем, что увидел зараз столько воровок,
но и обстоятельствами, в которых оказался: ведь теперь мне придется вступить
в общение со столькими людьми сразу, в то время как в продолжение вот уже
нескольких недель если я встречал кого-либо на улице, то переходил на другую
сторону.
Женщины были напуганы не менее моего, хотя и по другой причине. Они
объяснили, что все живут по соседству, что им передали, будто это бесхозный
товар, что они могут взять его и тому подобное. Я стал их стыдить, подошел к
воротам и взял ключ, так что теперь они были моими пленницами, пригрозил
запереть их всех на складе и сходить к лорд-мэру за констеблями.
Они изо всех сил молили не делать этого, говорили, что ворота были
открыты, а дверь склада взломана. И наверняка ее сломали грабители,
рассчитывавшие на более ценную добычу: об этом свидетельствовали и сломанный
врезной замок, и раскрытый висячий замок, болтавшийся сбоку на двери, и то,
что товару унесено было совсем мало.
В конце концов я решил, что сейчас не время для особой строгости и
жестокости; кроме того, мне пришлось бы вступить в общение с людьми, о
состоянии здоровья которых я не имел ни малейшего понятия {173}, а в это
время чума уже так свирепствовала, что в неделю умирало по 4000 человек; так
что, удовлетворяя свое чувство обиды и защищая права брата, я мог бы
поплатиться собственной жизнью; поэтому я ограничился тем, что записал их
фамилии и адреса тех из них, что жили по соседству, и пригрозил, что брат,
вернувшись, потребует их к ответу.
Потом я переменил тон и заговорил о том, как могли они совершать
подобные вещи перед лицом общего бедствия и Божьего сурового суда, когда
чума, быть может, уже подстерегает их у дверей, а то и переступила порог их
жилища, и - кто знает, - не подъедет ли через несколько часов погребальная
телега к их порогу, чтобы свезти их на кладбище.
Мне показалось, что эта речь не произвела на женщин особого
впечатления, но тут подошли двое мужчин, живущих по соседству: они услышали
шум и, так как оба знали моего брата и были многим обязаны его семье, пришли
ко мне на выручку. Жили они, как я уже сказал, по соседству и тут же
признали трех из женщин и сообщили мне их имена и адреса; и оказалось, что
те сообщили мне ранее правильные сведения.
Эти двое мужчин заслуживают дальнейшего упоминания. Одного из них звали
Джон Хейуорд - того, что был помощником церковного сторожа в приходе
Сент-Стивен, Коулмен-стрит {174}. В обязанности помощника в то время входило
копать могилы и хоронить усопших. Человек этот самолично нес или помогал
нести к могилам всех умерших в этом обширном приходе, пока хоронили по всем
правилам; а когда правила эти были отменены, ходил с колокольчиком и
погребальной телегой, забирая трупы у домов, причем многих приходилось
самому вытаскивать на улицу, а то и тащить их до телеги, так как в этом
приходе было - да и сейчас еще осталось, как нигде в Лондоне, - множество
узеньких и длинных аллей и проулков, куда никакая телега не могла проехать;
и сейчас еще существуют эти местечки - такие как Уайтс-Элли, Кросс-Ки-Корт,
Суон-Элли, Белл-Элли, Уайт-Хорс-Элли {175} и многие другие. Туда заходили с
тачкой, клали на нее трупы и тащили к телегам; все это он проделывал
ежедневно и ни разу не заразился; он прожил еще двадцать лет после окончания
мора. А жена его работала сиделкой и ухаживала за многими из тех, кто умер в
этом приходе, так как благодаря ее порядочности и честности ее часто
рекомендовали приходские власти, и она тоже не заразилась.
И никаких особых средств предохранения от заразы он не применял, только
курил и держал во рту чеснок и руту. Все это мне известно от него самого.
А лекарство его жены заключалось в том, что она мыла голову уксусом и
сбрызгивала им шаль на голове, так чтобы она все время была влажной; а если
от тех, за кем она ухаживала, исходил особо зловонный запах, она все время
вдыхала уксус, сбрызгивала им себе голову и держала у рта платок, смоченный
уксусом.
Надо признать, что, хотя чума особенно свирепствовала среди бедняков,
они как раз являли особую отвагу и бесстрашие, нанимаясь на работу с
какой-то звериной смелостью; я назвал ее так, потому что она была основана
не на религиозном чувстве и не на осмотрительности; они не прибегали к
каким-либо предосторожностям и хватались за любой заработок, с каким бы
риском он ни был сопряжен, - будь то уход за больными, слежка за запертыми
домами, перевозка заболевших в чумной барак или - самое страшное - перевозка
трупов на кладбище.
Именно при Джоне Хейуорде, на его участке, произошла та история с
волынщиком {176}, которая тогда всех сильно позабавила; и Джон уверял, что
все это правда. Говорили, что волынщик был слепым, но Джон сказал, что все
это враки: просто он был безграмотным жалким бедняком, который часов в 10
вечера обходил дома, играя на волынке; его обычно пускали в кабаки, где его
знали, давали выпить и закусить, а иногда и монетки бросали; а он за это
играл на волынке, пел и своими глупыми речами потешал народ; так он и жил.
Но теперь, как я уже говорил, настали плохие времена для подобного рода
развлечений, однако бедняга продолжал слоняться по-прежнему, но почти умирал
с голоду; и когда кто-нибудь спрашивал, как он поживает, отвечал обычно, что
погребальная телега еще не увезла его, но обещалась приехать за ним на
следующей неделе.
Однажды ночью бедняга - то ли ему кто-то поднес лишнего (Джон Хейуорд
сказал, что напился он не в частном доме, а в кабаке на Коулмен-стрит, где
его угостили лучше обычного), то ли еще почему - только, повторяю, бедняга с
отвычки, ведь долгое время он жил впроголодь, крепко заснул у ларька возле
Лондонской стены неподалеку от Крипплгейтских ворот; и как раз рядом с ним
люди из углового дома, заслышав колокольчик погребальной телеги, положили
тело человека, скончавшегося от чумы, считая, что и он тоже мертвец,
принесенный кем-то из соседей.
Когда Джон Хейуорд подъехал со своим колокольчиком и телегой и нашел
два тела, лежащих у ларька, то их подняли обычными приспособлениями и
бросили в телегу; и все это время волынщик крепко спал.
Оттуда они поехали по другим улицам, подбирая трупы, покуда, как сказал
мне честный Джон, они чуть не похоронили волынщика заживо, прямо в телеге;
однако за все его время он так и не проснулся; наконец, телега приехала к
тому месту, где тела предавали земле; было это, насколько помню, около
Маунт-Милл; {177} но там телега какое-то время ждала, пока все не будет
готово принять ее горестный груз; так вот, как только телега встала, парень
проснулся, с трудом высвободил немного голову из-под трупов и, приподнявшись
в телеге, заорал:
- Эй! Где это я?
Это страшно напугало помощника сторожа, но немного погодя он пришел в
себя и воскликнул:
- Господи, спаси и помилуй! В телеге кто-то живой!
Тогда беднягу спросили:
- Ты кто будешь?
И парень ответил:
- Я бедный волынщик. Куда я попал?
- Куда ты попал? - переспросил Хейуорд. - Ты попал в погребальную
телегу, и мы сейчас тебя похороним.
- Но ведь я вроде не помер? - спросил волынщик, и это всех слегка
развеселило, хотя поначалу они были очень напуганы. Так что они помогли
бедняге выбраться, и тот пошел своей дорогой.
Надо заметить, что погребальные телеги в городе не были закреплены за
определенным приходом; и одна телега могла обслуживать несколько приходов, в
зависимости от количества трупов; и увозили их не обязательно на
соответствующее приходское кладбище; многие трупы из Сити за неимением места
вывозили за город.
Я уже говорил о страхе и удивлении, которые вселял в людей этот мор.
Теперь же хочу сделать несколько серьезных замечаний нравственного
характера. Уверен, что никогда еще город - во всяком случае столь огромный
город - не оказывался до такой степени не подготовленным к этому ужасному
испытанию, будь то светские власти или духовенство. Как будто не было
предупреждения, предчувствия, ожидания; соответственно и не было сделано в
городе ни малейшего запаса провизии для общественных нужд. Например,
лорд-мэр и шерифы не сделали запасов провизии для тех нужд, которые можно
было предвидеть. Они не предприняли никаких мер, чтобы облегчить положение
бедняков {178}. У жителей города не было складов зерна и муки для
поддержания бедняков, которые - будь у них эти склады, как в подобных
случаях делалось за границей, - облегчили бы положение многих несчастных
семейств, доведенных теперь до отчаяния.
О состоянии финансов в городе могу сказать немногое. Поговаривали,
будто Лондонское казначейство было баснословно богато, и это подтверждается
огромными суммами, полученными от него год спустя на восстановление
общественных зданий, пострадавших от лондонского пожара, а также на новые
строительные работы; в первом случае я имею в виду прежде всего Гилдхолл
{179}, Блэкуэллхолл, частично Леденхолл {180}, половину Биржи {181},
Сешн-хаус, Бухгалтерию, тюрьмы Ладгейт {182} и Ньюгейт {183}, верфи,
лестницы, пристани и многое другое - все то, что было сожжено и попорчено во
время Великого лондонского пожара, случившегося через год после чумы; во
втором - Монумент {184}, Флитскую канавку {185} с ее мостами, Вифлеемский
госпиталь, или Бедлам {186}, и т. д. Но, возможно, распределители городских
кредитов в те времена больше совестились брать сиротские деньги на
благотворительность для доведенных до крайности людей, чем распределители
последующих лет - на украшение города и восстановление зданий; несмотря на
то, что в первом случае пострадавшие могли бы считать свои деньги лучше
потраченными и общественное мнение было бы меньше склонно к упрекам и
возмущению.
Надо сказать, что уехавшие горожане, хоть они и бежали в провинцию в
поисках спасения, однако очень радели о благополучии тех, кто оставался в
столице; они не преминули внести щедрые пожертвования на облегчение участи
бедняков, большие суммы были собраны также в торговых городах по всей
стране, вплоть до самых отдаленных ее уголков; и я также слышал, что
титулованное дворянство и джентри со всей Англии, учтя плачевное состояние
столицы, послали крупные суммы лорд-мэру и магистрату на бедняков. Король
также, мне говорили, распорядился еженедельно выдавать тысячу фунтов {187} с
тем, чтобы она делилась на четыре части: одна часть - на Сити и слободы
Вестминстера, другая - на обитателей Саутуэрка, третья - на слободы и часть
Сити (исключая ту, что находится за стенами), а четвертая - на пригороды в
графстве Миддлсекс, а также восточной и северной частям Сити. Но обо всем
этом я знаю только с чужих слов.
Точно же могу сказать, что большая часть бедных семейств, жившая ранее
плодами собственного труда или розничной торговлей, существовала теперь на
пожертвования, и если бы значительные суммы денег не отпускались на нужды
благотворительности добросердечными христианами, город никогда бы не смог
прокормить своих бедняков. Несомненно, велся учет этих пожертвований и их
распределения магистратом. Но так как многие чиновники, занимавшиеся
распределением, умерли во время мора, а большинство отчетов погибло из-за
Великого лондонского пожара, приключившегося через год после чумы, в огне
которого погибли даже дела казначейства, то мне так и не удалось получить
точных данных, хоть я и очень хотел их увидеть.
Эти сведения могли бы оказаться весьма полезны, если бы, сохрани
Господь, нас вновь постигло подобное испытание; я хочу сказать, что,
благодаря заботам лорд-мэра и олдерменов, еженедельно распределявших
огромные денежные суммы для облегчения участи бедняков, множество людей,
которые иначе погибли бы, были спасены и остались в живых. И здесь -
разрешите привести краткий очерк положения бедняков в то время с изложением
соображений, что можно из него извлечь, так чтобы в дальнейшем знать, какие
меры принимать, если город постигнет подобное несчастье.
Еще в самом начале мора - когда уже стало ясно, что весь город
подвергнется испытанию, и когда, как я уже говорил, все, кто имел друзей или
поместья в сельской местности, покинули столицу вместе с семьями, так что
можно было подумать, будто все жители устремились к городским воротам и
вскоре никого не останется в Лондоне, - любая торговля, не связанная с
обеспечением населения самым необходимым, была полностью приостановлена. Это
столь животрепещущий вопрос, так тесно связанный с реальным положением
людей, что в обсуждении его нельзя оказаться слишком дотошным; поэтому я и
разделил на несколько групп людей, которые непосредственно пострадали от
приостановки торговли.
1. Все ремесленники, особенно те, что занимались отделкой и другими
украшениями платья, белья и мебели, например изготовители лент, ткачи и
плетельщики кружев из золотых и серебряных нитей, вышивальщики золотом и
серебром, портные, продавцы галантерейных товаров, сапожники, шляпники и
перчаточники; а также драпировщики, столяры, краснодеревщики, стекольщики,
как и вся торговля, связанная с этими профессиями; так что владельцы,
лавочек, занимающиеся такого рода торговлей, позакрывали их и распустили
подручных - работников и подмастерьев.
2. Прекратилась вся торговля, связанная с судоходством, так как лишь
немногие корабли отваживались подняться вверх по реке и совсем никто не
спускался вниз; таким образом, все чиновники таможен, как и лодочники,
перевозчики, носильщики и все те бедняги, чей приработок был связан с речной
торговлей, тут же остались без работы.
3. Все торговцы, которые были связаны со строительством или ремонтом
домов, остались без работы, так как в городе, где тысячи домов стояли
бесхозными, никто и не помышлял о строительстве; так что уже хотя бы по этой
причине все строительные рабочие - кирпичники, каменщики, плотники, столяры,
штукатуры, маляры, стекольщики, кузнецы, паяльщики и все их подручные
остались без работы.
4. Вся навигация была приостановлена. Корабли не сновали туда-сюда, как
раньше, и все моряки остались без работы, причем многие из них в самом
отчаянном положении; и к морякам следует еще присоединить самых разных
ремесленников и торговцев, связанных со строительством и снаряжением
кораблей, таких как корабельные плотники, конопатчики, плетельщики канатов,
бочары, изготовители парусов, якорей, шкивов и талей, резчики, оружейные
мастера, судовые поставщики и тому подобные. Хозяин дела мог, возможно,
прожить на свои сбережения, но торговцы полностью прекратили работу и были
вынуждены уволить своих подручных. Добавьте к этому, что на реке совсем не
стало лодок и большинство лодочников и матросов с лихтеров, а также
строители лодок и лихтеров остались без работы.
5. Все семьи, независимо от того, уезжали они из города или оставались,
старались максимально урезать свои расходы; так что несметное число грумов,
лакеев, сторожей, поденщиков, счетоводов в купеческих семьях и прочих, а
особенно горничных, было уволено и оказалось без друзей, без работы, жилья и
какой-либо помощи; и эта категория людей оказалась в особенно бедственном
положении.
Я мог бы рассказать обо всем этом еще подробнее, но достаточно будет
отметить в целом, что торговля, как и прием людей на работу, прекратилась;
не было торговли, а значит, не было и хлеба для бедняков; поначалу жалко
было слышать их вопли, хотя распределение благотворительной помощи
значительно облегчало испытываемые ими бедствия. Многие бедняки разбрелись
по другим графствам, но тысячи оставались в Лондоне, пока их не выгнало из
домов отчаяние; многих смерть настигла в дороге - они оказались всего лишь
посланцами смерти; другие же, неся в себе заразу, распространили ее в самые
отдаленные уголки страны.
Многие оказались жертвами отчаяния, о чем я уже говорил, и вскоре
погибли. Можно сказать, что умерли они не от самой болезни, но от ее
следствий, а именно: от голода, отчаяния и крайней нужды; у них не было ни
крова над головой, ни денег, ни друзей, ни работы, ни возможности одолжить у
кого-либо деньги; ведь многие из них не имели, что называется, постоянного
вида на жительство и не могли обращаться в приходы; все, что они могли, -
это просить о помощи магистрат, и помощь эта (надо отдать магистрату
должное), если она была признана необходимой, распределялась внимательно и
добросовестно; так что те, кто оставался, не испытывали таких нужды и
лишений, как те, что уходили из города.
Пусть любой, кто хоть сколько-то представляет, какое множество народа
добывает собственными руками хлеб свой насущный - будь то ремесло или просто
поденщина, - повторяю, пусть любой представит себе бедственное положение
города, если внезапно все эти люди лишатся работы; труд их станет не нужен,
а жалованье получать будет не за что.
А именно так в то время у нас и получилось; и если бы не огромные суммы
пожертвований благородных людей как внутри страны, так и за ее пределами,
мэру и шерифам не удалось бы поддерживать общественное спокойствие. Понимали
они и то, что отчаяние может подтолкнуть людей к беспорядкам и подстрекнуть
их вламываться в дома богачей и грабить рынки с провизией; а в этом случае
селяне, смело и помногу привозившие в город продукты, были бы напуганы,
прекратили бы свои поездки, и горожан ожидал бы неминуемый голод.
Но лорд-мэр, Совет олдерменов в Сити и мировые судьи в пригородах вели
себя так осмотрительно, озаботились получить столько денег со всех концов
страны, что им удавалось сохранять спокойствие среди бедняков и облегчать их
положение насколько возможно.
Помимо этого были еще две причины, препятствовавшие бесчинствам толпы.
Во-первых, то, что даже богачи не сделали у себя дома больших запасов
провизии, как им следовало бы: ведь, будь они достаточно умны, чтобы так
поступить и запереться в собственных домах, как и сделали некоторые, они бы
гораздо менее пострадали. Но факт остается фактом, что они этого не сделали,
так что толпа не нашла бы запасов провизии, вломись она в их дома, а она
подчас была к этому очень близка. Но если бы дошло до крайности, то и всему
городу пришел бы конец; ведь не было регулярной армии, чтобы противостоять
толпе, не собрали бы и наемных отрядов для защиты столицы, потому что не
осталось мужчин, способных носить оружие.
Но предусмотрительность лорд-мэра и тех членов магистрата, которые еще
исполняли свои обязанности (потому что даже некоторые из олдерменов умерли,
а другие уехали), предотвратила это; причем поступали они самым деликатным и
доброжелательным образом: первым делом облегчая деньгами участь самых
нуждающихся, других же обеспечивая работой, прежде всего в качестве сторожей
при запертых домах, пораженных чумой. А так как число подобных домов было
весьма велико (говорили, что в городе единовременно было заперто до десяти
тысяч домов, и при каждом доме было по два сторожа - на дневное время и на
ночь), то это давало возможность одновременно обеспечить работой огромное
число бедняков.
Работницы и служанки, которым было отказано в месте, нанимались,
соответственно, сиделками при больных, и это тоже дало работу очень многим.
И, как это ни грустно, была и еще подмога - сама чума, которая так
косила людей с середины августа по середину октября, что унесла за это время
тридцать-сорок тысяч тех, кто, останься они в живых, оказались бы по своей
нищете непосильным бременем: вся столица не смогла бы взять на себя расходы
на их содержание или снабдить их провизией; и, чтобы поддержать себя, они
были бы вынуждены грабить либо город, либо его окрестности, а это рано или
поздно ввергло бы не только Лондон, но и всю страну в смятение и хаос.
Выше говорилось, что общее бедственное положение привело народ в
трепет: уже около девяти недель кряду ежедневно умирало около тысячи
человек, даже согласно еженедельным сводкам, а у меня есть все основания
считать, что они никогда не давали полных данных, приуменьшая их на многие
тысячи: ведь была страшная неразбериха, погребальные телеги привозили
мертвецов в темноте, в некоторых местах вообще не велся учет умерших, телеги
же продолжали возить трупы, а чиновники и сторожа не показывались по целым
неделям и не знали, сколько трупов свезли на кладбище. Сказанное
подтверждается следующей сводкой смертности:
Общее число Умершие
умерших от чумы
С 8 по 15 августа 5319 3880
С 15 по 22 августа 5568 4237
С 22 по 29 августа 7496 6102
С 29 августа 8252 6988
по 5 сентября
С 5 по 12 сентября 7690 6544
С 12 по 19 сентября 8297 7165
С 19 по 26 сентября 6460 5533
С 26 сентября 5720 4929
по 3 октября
С 3 по 10 октября 5068 4327
59870 49705
Получается, что большинство людей погибло именно за эти два месяца;
ведь если общее число погибших от чумы было 68 590, то здесь указано 50 000
только за такой ничтожный период, как два месяца; я называю цифру 50 000
потому, что, хотя до нее недостает 295 человек, здесь не хватает и пары дней
для полных двух месяцев.
Так вот, когда я утверждаю, что приходские служащие не давали полных
отчетов или что их отчетам нельзя доверять, надо учитывать, насколько трудно
было соблюдать точность в те бедственные времена, когда многие из самих
служащих тоже болели, а возможно, и умирали, как раз в то время, когда им
полагалось сдавать отчеты; я имею в виду приходских служек, не считая низших
чинов: ведь хотя эти бедняги шли на любой риск, сами они вовсе не были
избавлены от общего бедствия, особенно в приходе Степни, где в течение года
погибли 116 могильщиков, кладбищенских сторожей и их помощников, то есть
носильщиков, звонарей и перевозчиков, доставлявших трупы на кладбище.
Эта работа не располагала их к праздным вопросам об умерших, которых в
темноте сваливали в общую яму; подходить близко к этой яме, или траншее,
было крайне опасно. Я не раз видел в недельных сводках, что число умерших в
приходах Олдгейт, Крипплгейт, Уайтчепл и Степни достигало пяти, шести, семи,
восьми сотен в неделю, тогда как, если верить тем, кто жил в городе все это
время так же, как и я, то число умерших достигало иногда в этих приходах
двух тысяч в неделю; и я самолично видел подсчеты одного человека,
занимавшегося максимально точными исследованиями этого вопроса, согласно
которым от чумы в течение года умерло сто тысяч человек, в то время как,
согласно сводкам, их было 68 590 {188}.
И если мне дозволено будет высказать свое мнение на основе того, что я
видел собственными глазами или слышал от очевидцев, то я верю этому
человеку, - я хочу сказать, верю, что умерло, по крайней мере, сто тысяч
человек от чумы, не считая тех, кто умер в полях, на дорогах и во всяких
укромных местах - вне связи с внешним миром, как тогда выражались, - и кто
не попал поэтому в официальные сводки, хотя и принадлежал к обитателям
города. А нам было известно, что множество бедняков, отчаявшихся и уже
зараженных, были настолько глупы и удручены бедственностью своего положения,
что забредали в поля, леса, самые безлюдные уголки, в любое местечко, лишь
бы дойти до куста или изгороди и умереть.
Обитатели близлежащих деревень обычно из жалости выносили им пищу и
ставили ее на расстоянии, так что те могли дотянуться до нее, если были в
силах; но частенько сил у них не было, и, когда деревенские приходили снова,
они заставали бедняг уже мертвыми, а пищу - нетронутой. Число таких смертей
было весьма велико, я сам знаю многих погибших таким образом, знаю, где
именно они погибли, знаю настолько хорошо, что, кажется, мог бы найти это
место и вырыть их кости; потому что деревенские обычно делали яму на
некотором расстоянии от мертвеца, затем длинными шестами с крючьями на
концах подтаскивали тело, бросали в яму и издалека забрасывали землей {189},
при этом обращая внимание на направление ветра и располагаясь, как
выражаются моряки, с надветренной стороны, так чтобы смрад от тела шел в
противоположную сторону; таким образом, великое множество людей ушло из
жизни безвестными и ни в какие сводки смертности их не вносили.
Все это я знаю главным образом из рассказов очевидцев, так как сам я
редко гулял по полям, если не считать прогулок в сторону Бетнал-Грин {190} и
Хэкни {191}. Но куда бы я ни шел, я всегда видел в отдалении множество
одиноких скитальцев; однако я ничего не знал об их положении, ибо у нас
вошло за правило - если видишь кого-нибудь идущего, будь то на улице или в
полях, старайся уйти поскорее прочь; однако я не сомневался, что все
рассказанное выше - правда.
И сейчас, когда я упомянул о своем хождении по улицам и полям, не могу
не сказать, каким опустелым и заброшенным стал тогда город {192}. Широкая
улица, на которой я жил, - а она считалась одной из широчайших в городе
(учитывая также улицы в пригородах и слободах {193}), - по ту сторону, где
жили мясники, особенно за заставой, более походила на зеленую лужайку,
нежели на мощеную улицу; люди обычно старались идти посередине, там же, где
лошади и телеги. Правда, дальний ее конец, ближе к Уайтчеплу, был вовсе не
замощен, но и мощеная часть поросла травой; но этому нечего удивляться: ведь
и на самых оживленных улицах Сити, таких как Леденхолл-стрит,
Бишопсгейт-стрит, Корнхилл и даже вокруг Биржи, тоже местами пробивалась
трава; не сновали по ним с утра и до позднего вечера кареты и телеги, если
не считать деревенских телег, привозивших овощи, бобы, горох, сено и солому
на рынок, да и тех было намного меньше, чем обычно. Что же касается карет,
то их почти не использовали, разве что везли заболевших в чумной барак или в
другой какой госпиталь либо изредка перевозили врача туда, куда он решался
пойти; кареты стали опасны, и люди не решались в них ездить, так как
неизвестно было, кого там перевозили до них: ведь, как я уже говорил,
больные, заразные люди часто доставлялись в каретах в чумной барак, а подчас
и умирали прямо в дороге.
Правда, когда бедствие достигло таких размеров, о которых я уже
говорил, мало кто из врачей решался заходить в дома заболевших; многие, в
том числе и самые знаменитые врачи, как и хирурги, перемерли; ведь теперь
настали совсем худые времена, и уже с месяц, как, не обращая внимания на
официальные сводки, я считал, что за день умирало не меньше 1500-1700
человек.
Самые тяжелые времена настали в начале сентября, когда добрые христиане
решили, что Господь вознамерился полностью истребить народ в этом грешном
городе. Тогда чума более всего свирепствовала в восточных приходах. Приход
Олдгейт, по моему наблюдению, в течение двух недель хоронил более тысячи в
неделю, хотя сводки указывали меньшую цифру; но вокруг меня смертность так
возросла, что из двух десятков домов на Минориз и на Хаундсдич едва ли
оставался хоть один не зараженный, а в той части Олдгейтского прихода, где
находился Мясной ряд, и в узеньких переулках напротив, неподалеку от меня,
Смерть, можно сказать, пировала на каждому углу. Уайтчепл был в таком же
положении, и хотя там были дела получше, чем в моем приходе, но и там
хоронили, согласно сводкам, по 600 человек в неделю, а по моим
представлениям - чуть ли не вдвое больше. Вымирали целые семьи, а иногда и
целые улицы, так что нередко соседи просили погребальщнков идти к такому-то
дому и доставать трупы, потому что там все умерли.
Да и сама работа по уборке трупов на телеги стала настолько опасной и
неприятной, что появились жалобы на погребальщиков - они-де не выносят трупы
и не очищают дома, все обитатели которых умерли, так что иногда трупы
валяются по нескольку дней незахороненными, и так до тех пор, пока вонь не
достигала соседних домов и не заносила туда заразу; и таково было небрежение
служителей, что даже церковным старостам и констеблям приходилось следить за
ними, а мировым судьям в поселках с риском для жизни подгонять их и
заставлять работать. Ведь огромное число погребальщиков умерло, заразившись
от трупов, к которым им приходилось приближаться. И не будь в городе такого
количества бедняков, оставшихся без работы и без куска хлеба, как я уже
говорил, так что нужда заставляла их решаться на что угодно, никогда не
нашли бы они людей на такую работу. А тогда трупы валялись бы прямо на
земле, разлагались и гнили бы самым чудовищным образом.
Но нельзя не отдать должное магистрату: чиновники так хорошо
организовали захоронение трупов, что, как только кто-либо из погребальщиков
заболевал или умирал, что частенько случалось, на его место тут же поступали
другие, и сделать замену было не трудно благодаря множеству бедняков,
оставшихся без работы. Благодаря этому, несмотря на огромное число умиравших
почти одновременно, все трупы уносились из домов и захоранивались еженощно,
так что никто не мог бы сказать о Лондоне, что живые не успевают там
хоронить своих мертвецов.
Так как город в те страшные времена почти обезлюдел, возросли и страхи
у людей, они делали массу необъяснимых вещей, просто охваченные ужасом,
подобно тому, как другие поступали так же в припадке болезни. Одни,
заламывая руки, бегали с ревом и криками по улице; другие молились, на ходу
воздевая руки к небесам и прося у Бога защиты. Не могу утверждать, что все
они были в здравом уме, но, как бы там ни было, это все же указывало на
более достойное состояние духа и, во всяком случае, было гораздо лучше, чем
устрашающий визг и вой, который ежедневно, особенно вечерами, доносился с
некоторых улиц. Полагаю, все знают о фанатичном ревнителе веры, знаменитом
Соломоне Игле {194}. Вовсе не будучи больным, если не считать состояния
мозгов, он нагишом, с пригоршней дымящихся углей в руке разгуливал по улицам
и самым устрашающим образом грозил Божьей карой всему городу {195}. Что
именно он говорил или предрекал, я так и не смог понять.
Не могу сказать, был ли помешанным или просто радел о бедняках тот
священник, который, проходя ежедневно по улицам Уайтчепла, воздевал руки к
небу и беспрестанно твердил слова церковной литургии: "Спаси нас, о Боже,
будь милостив к народу Твоему, к тем, во искупление которых Ты пролил Свою
бесценную кровь!" Повторяю, не могу я утверждать ничего с уверенностью, так
как все эти мрачные картины представали взору моему издали, когда я смотрел
на улицу через окно спальни (я очень редко открывал окна настежь) в то
время, как сам я заперся в доме на период наиболее лютого бедствия; в это
время многие начали думать и даже утверждать вслух, что никто не уцелеет; и,
по правде говоря, я и сам стал так подумывать, а потому заперся в доме
недели на две и совсем перестал выходить. Но выдержать этого я не мог. Кроме
того, находились люди, которые, несмотря на опасность, продолжали ходить на
публичные богослужения даже в эти страшные времена; и хотя действительно
множество священников позапирали церкви и, спасая живот свой, как и их
прихожане, покинули город, однако так поступили не все. Некоторые решались
совершать богослужения и собирать людей на ежедневный молебен, а иногда и на
проповедь или на краткий призыв покаяться и не грешить более, они не
уставали проделывать это до тех пор, пока было кому их слушать. Так же
поступали и диссиденты, они даже служили в церквах, где священники умерли
или сбежали, ведь в такое тяжелое время было уже не до этих мелких различий.
Сердце надрывалось слышать жалобы этих еле живых бедняг, умолявших
священников утешить их, помолиться за них, дать им совет и наставление,
просящих Бога простить и помиловать их, признающихся в своих прошлых грехах.
И самое твердокаменное сердце облилось бы кровью, доведись ему услышать
предупреждения умирающих грешников другим не откладывать покаяние до
последнего дня, так как в эти бедственные времена у них может даже не
остаться времени для раскаяния, чтобы воззвать к Богу. Хотелось бы мне, чтоб
я был в состоянии воспроизвести сами звуки этих стонов и восклицаний,
которые довелось мне слышать от умирающих в тяжелейшие моменты агонии, и
чтоб читатель мог представить это себе так же живо, как я, а мне так и
кажется, что звуки эти все еще звенят у меня в ушах.
Если б только я мог передать эту часть моего повествования такими
проникновенными словами, чтоб растревожить душу читателя, я возрадовался бы,
что написал все это, каким бы кратким и несовершенным ни оказался бы мой
рассказ.
Богу угодно было, чтобы я все еще оставался жив и здоров и только
испытывал страшное нетерпение от того, что был заперт в доме и не выходил на
свежий воздух недели две или около того; я более не мог сдерживать себя и
решил пойти отнести письмо брату на почту {196}. Тогда-то я и отметил
полнейшую пустоту на улицах. Когда же я подошел к почте, чтобы отправить
письмо, то обнаружил человека, стоящего в углу двора и о чем-то говорящего с
другим человеком, находящимся у окна; третий же стоял в дверях конторы.
Посреди двора лежал маленький кожаный кошелек с деньгами и с двумя ключами,
висящими сбоку, но никто не решался поднять его. Я спросил, долго ли он
здесь лежит; человек у окна ответил, что лежит он уже почти час, но никто не
хочет впутываться в это дело, так как уронивший его может вернуться за
потерей. У меня не было большой нужды в деньгах, да и сумма в кошельке была
явно не так велика, чтобы ввести в соблазн и брать деньги с риском, что за
ними придут; так что я решился было уходить, когда человек, стоявший в
дверях, сказал, что он возьмет деньги, но, если истинный владелец вернется
за ними, он, конечно, их отдаст. И вот он сходил за ведром с водой и
поставил его рядом с кошельком, потом пошел принес немного пороху, бросил
пригоршню на кошелек и сделал дорожку вокруг. Дорожка была около двух ярдов
длиной. Тут он пошел в третий раз и принес докрасна раскаленные щипцы,
которые он, полагаю, приготовил заранее; потом поджег пороховую дорожку, так
что подпалил кошелек и хорошенько прокурил воздух. Но и этого показалось ему
мало, он взял кошелек щипцами и держал, пока не прожег насквозь, потом
высыпал деньги в ведро с водой и унес его в дом. Денег, насколько помню,
оказалось тринадцать шиллингов, несколько стершихся серебряных монет по
четыре пенса и сколько-то медных фартингов {197}.
Возможно, и были, как я уже говорил, такие бедняки, которых нужда
заставила бы рискнуть и взять деньги, но вы ясно видите из моего рассказа,
что те, кто не так бедствовал, были крайне осторожны в то время - так велика
была опасность.
Вскоре после этого случая пошел я полями по направлению к Боу {198},
потому что мне страшно хотелось узнать, как обстоят дела на реке и на судах;
и так как я немного разбираюсь в судах, у меня было представление, что один
из лучших способов уберечься от заразы - поселиться на корабле; размышляя о
том, как удовлетворить свое любопытство по этой части, я повернул с полей
Боу к Бромли {199}, затем вниз, к Блэукуэллу и спуску, куда ходили за водой
и куда причаливали суда.
Здесь я увидел беднягу, идущего вдоль берега, или береговой насыпи, как
ее тогда называли. Я тоже прошел немного в том же направлении и убедился,
что дома на набережной все заколочены. В конце концов, продолжая идти на
некотором расстоянии от этого несчастного, я все же вступил в разговор с
ним; и прежде всего поинтересовался, каково здесь приходится людям.
- Увы, сэр, - отвечал он, - округа почти совсем обезлюдела. Кто
захворал, а кто помер. Здесь уцелело всего несколько семей, и в деревнях
тоже, - он указал на Поплар {200}, - из тех, что еще не померли, почти все
хворают. - Он махнул рукой в сторону одного из домов. - Здесь все перемерли,
дом стоит открытым, и никто не решается зайти в него. Один бедолага воришка
рискнул стащить из него что-то и здорово поплатился за кражу: вчера и его
свезли на погост. - Потом он стал указывать на другие дома. - Там все
умерли: хозяин, его жена и пятеро детей. Там дом стоит запертым - видите
сторожа у дверей?
И в том же духе рассказывал он о других домах.
- Ну, а что же ты сам тут делаешь, один-одинешенек? - спросил я.
- Я несчастный одинокий человек. По милости Божией, меня не постигло
еще испытание, хотя семья моя уже пострадала и один из детей моих умер.
- Тогда как же ты говоришь, что тебя не постигло испытание? - спросил
я.
- Вон мой дом. - Он указал на маленький, низенький домик. - И там живут
моя бедная жена и двое детей, если можно назвать это жизнью, - ведь жена и
один ребенок больны. Но я туда не хожу.
Тут я заметил, что слезы градом катятся у него по щекам, и, уверяю вас,
мои щеки тоже стали мокры от слез.
- Да как же ты не приходишь к ним? Как мог ты покинуть свою собственную
плоть и кровь?
- Что вы, сэр, упаси Боже! Я вовсе не бросил их. Я работаю на них,
сколько в моих силах; и, с Божьей помощью, они не терпят нужды. - С этими
словами он поднял к небу глаза, и выражение лица у него тотчас же убедило
меня в том, что повстречался я не с ханжой, а с трезвомыслящим,
богобоязненным и добрым человеком; на лице его была благодарность за то, что
в том положении, в котором он оказался, он все же способен был уберечь семью
свою от нужды.
- Что ж, честный человек, - сказал я, - это величайшая милость,
особенно если учесть, каково сейчас приходится беднякам. Но на что же ты
живешь и как удалось тебе уберечься от страшного бедствия, всех нас
постигшего?
- Дело в том, сэр, что я лодочник, и вон моя лодка. В лодке этой я и
живу. Днем я в ней работаю, а ночью - сплю. А все, что зарабатываю, кладу
вон на тот камень. - Он указал на большой камень на другой стороне улицы на
значительном расстоянии от его дома. - И тогда я кличу и высвистываю их,
пока они не услышат, и они выходят забрать деньги.
- Но послушай, друг, как же тебе удается заработать хоть что-нибудь?
Разве люди пользуются лодками в наше время?
- Да, сэр. В том смысле, для чего меня нанимают, - пользуются. Видите,
там на якоре стоят пять кораблей? - Он указал вниз по течению реки,
значительно ниже города. - А видите восемь-десять кораблей, стоящих на цепях
у причала и на якоре там, подальше? - Теперь он указал вверх по реке. - На
всех этих кораблях семьи на борту - купцы, их владельцы и прочие; все они
засели на кораблях и не сходят на берег из страха заразы. Я доставляю им
провизию, отвожу письма и делаю самое необходимое, так что им не приходится
спускаться на берег. Каждую ночь я прицепляю лодку к одному из таких
кораблей, и, слава Создателю, пока что я цел.
- Но, друг, - сказал я, - неужели они разрешают тебе подниматься на
борт после того, как ты побывал здесь, на берегу, в этом ужасном месте, где
столько заразных больных?
- Ну, что до этого, - сказал он, - так я очень редко поднимаюсь на
борт. Я перекладываю все, что привез, в их лодку или кладу все у борта, и
они поднимают все на корабль. Но если бы я и поднимался на борт, думаю,
опасаться им было бы нечего: ведь я не захожу в дома на берегу, ни с кем не
общаюсь, даже с собственной семьей; я только доставляю ей пищу.
- Но это, может быть, как раз самое опасное, - сказал я, - ведь эту
провизию все равно приходится от кого-то получать. А раз вся эта часть
города так заражена, то опасно даже заговаривать с кем-либо: ведь деревня,
по существу, является началом города, хоть она и несколько удалена от него.
- Все это так, - сказал он, - но вы не совсем меня поняли. Здесь я не
покупаю для них провизию. Я плыву вверх по реке к Гринвичу {201} и покупаю
там свежее мясо, а иногда плыву вниз по реке в Вулидж {202} и делаю закупки
там; потом я плыву к уединенной ферме на Кентской стороне {203}, где меня
знают, и покупаю птицу, яйца и масло, и развожу все это, как меня просили, -
одно на тот, другое на другой корабль. Я редко схожу здесь на берег и сейчас
пришел сюда лишь за тем, чтобы навестить жену и узнать, как поживает моя
семья, да отдать им то немногое, что я получил вчера вечером.
- Бедняга, - сказал я, - и сколько же ты получил?
- Три шиллинга, - сказал он, - огромная сумма по нынешним временам для
бедняка; да еще мне дали целую сумку хлеба, соленой рыбы и немного мяса. Так
что не так уж плохо.
- Ну, и ты уже все это отдал?
- Нет, - сказал он, - но я уже кликал жену, и она сказала, что сейчас
выйти не может, а постарается подойти через полчаса, и я дожидаюсь ее.
Бедняжка, - добавил он, - ей очень туго приходится. У нее был нарыв, а
сейчас он прорвался, так что я надеюсь, что она выкарабкается. Боюсь только,
ребенок погибнет, но на все воля Божия.
Тут он замолчал и горько заплакал.
- Ну, добрый друг, у тебя есть надежный Утешитель, раз ты научился
смиряться перед волей Божией. Он всех нас рассудит.
- О сэр, - воскликнул он, - если хоть кто-нибудь из нас уцелеет, и то
уж будет великая милость Божия, и кто я такой, чтобы роптать?!
- Это ты говоришь? Насколько же меньше моя вера, чем твоя! - У меня
прямо сердце защемило: я вдруг осознал, насколько тверже убеждения этого
бедняка, которые поддерживают его в минуту опасности, чем мои собственные;
ведь ему некуда было бежать, у него, в отличие от меня, была семья,
нуждавшаяся в его поддержке; и однако, мое поведение было основано на
простых предположениях, его же - на твердом Уповании на милость Божию, хотя
он и принимал всевозможные предосторожности, чтобы не заболеть.
Я отвернулся в сторону, размышляя над этим, так как, подобно ему, не
маг сдержать слез.
Наконец, после того как мы еще немного поговорили, женщина открыла окно
и позвала:
- Роберт! Роберт!
Он ответил и попросил ее подождать, пока он подойдет, потом побежал
вниз по ступеням к лодке и вернулся с мешком, в котором была провизия,
принесенная им с корабля; затем он вновь окликнул жену. Потом подошел к
большому камню, который он мне показывал, опорожнил мешок, разложил все на
камне - каждую вещь по отдельности, - а сам отошел в сторонку; жена вышла с
маленьким мальчуганом, чтобы отнести вещи, а он кричал им, какой капитан что
прислал, и в конце концов добавил:
- Все это Бог послал, Его и благодари!
Когда бедная женщина все собрала, оказалось, что она слишком слаба,
чтобы отнести все это зараз, хотя вес был и невелик; тогда она вынула
сухари, что лежали в небольшой сумке, и оставила мальчика покараулить их,
пока она не вернется.
- Послушай, а ты оставил ей четыре шиллинга, которые, говорил, ты
заработал за неделю?
- Конечно, конечно, - ответил он, - вот увидишь: она сама подтвердит. -
И он снова крикнул: - Рейчел, Рейчел (так ее звали), ты взяла деньги?
- Да, - сказала она.
- Сколько там было?
- Четыре шиллинга и серебряная монетка в четыре пенса.
- Хорошо, да благословит всех вас Господь, - сказал он и повернулся,
чтобы уйти прочь.
Как не мог я сдержать слез, когда услышал историю этого человека, так
не мог сдержать и своего желания помочь ему. Поэтому я окликнул его:
- Послушай, друг, подойди-ка сюда, потому что я твердо верю, что ты
здоров, и я могу рискнуть приблизиться к тебе. - Тут я вытащил руку, которую
до того держал в кармане. - Вот, поди позови свою Рейчел еще раз и дай ей
эту малость. Господь никогда не покинет семью, которая так в него верует.
С этими словами я дал ему еще четыре шиллинга, попросил положить их на
камень и снова позвать жену.
Никакими словами не опишешь благодарности бедняги, да и сам он мог ее
выразить лишь потоками слез, струившихся по щекам. Он позвал жену и сказал,
что Господь смягчил сердце случайного прохожего, и тот, услыхав об их
положении, дал им все эти деньги, и гораздо больше, чем деньги, сказал он
ей. Женщина тоже жестами выразила свою признательность и нам и Небу, потом с
радостью унесла приношение; и думаю, что за весь тот год не потратил я денег
лучшим образом.
Потом спросил я беднягу, не добралась ли болезнь до Гринвича. Он
сказал, что две недели назад заразы там точно не было, но с тех пор, он
боится, случаи заболевания были, но в той части города, что ближе к
Детфордскому мосту; {204} он же заезжал только к мяснику и зеленщику, где он
обычно покупает продукты, за которыми его посылают, и был предельно
осмотрителен.
Тогда я спросил его, как же так получилось, что люди, которые заперлись
на кораблях, не сделали необходимого запаса продуктов? Он ответил, что
некоторые так и поступили, тогда как другие не уходили до тех пор на
корабль, пока страх не заставил их на это решиться, а тогда было уже слишком
опасно выходить и делать запасы провизии; он обслуживает два корабля - он
указал мне их, - которые почти ничем не запаслись, кроме сухарей и пива, и
ему приходится покупать для них все остальное. Я спросил, есть ли еще
корабли, которые так же уединились, как те, что я видел. Он сказал, Да, на
всем пространстве вверх по реке до Гринвича, включая Лаймхаус {205} и
Редрифф {206}, все корабли, которые смогли уместиться, стоят посреди реки по
четыре в ряд, и на многих из них по нескольку семей на борту. Я спросил, не
коснулась ли их болезнь. Он ответил, что нет, за исключением двух-трех
кораблей, обитатели которых не следили за моряками и разрешали им сходить на
берег; он сказал, что приятно посмотреть, как выстроились корабли вверх по
Заводи {207}.
Когда же он сообщил, что собирается отплыть в Гринвич, как только
начнется прилив, я спросил, не возьмет ли он меня с собою туда и обратно,
потому что мне страшно хочется посмотреть, как выстроились на реке корабли,
о чем он сам говорил. Он отвечал, что согласен, коли только я заверю его
словом христианина и честного человека, что я не заразный. Я уверил его, что
здоров, что Бог пока меня миловал, что живу я в Уайтчепле, но что, не в
силах долее сидеть взаперти, я решился пойти сюда, чтобы прогуляться по
свежему воздуху, и что в доме у меня тоже нет никакой заразы.
- Ну что ж, сэр, раз вы настолько пожалели меня и мое бедное семейство,
что пожертвовали нам деньги, едва ли вы будете так безжалостны, чтобы сесть
ко мне в лодку, если вы больны, - ведь тем самым вы убьете меня и погубите
всю мою семью.
Бедняга столь растрогал меня заботой и любовью к своим близким, что я
решил было вообще не ехать. Я сказал, что лучше смирю свое любопытство, чем
доставлю ему беспокойство, хоть я и убежден, что, благодарение Творцу,
заразен не более, чем новорожденный младенец. Но теперь уж он не хотел и
слышать о моем отказе и, чтобы убедить меня, что он мне доверяет, настойчиво
убеждал меня ехать; так что, когда начался прилив, я влез к нему в лодку, и
он отвез меня в Гринвич. Пока он покупал то, что было ему заказано, я
поднялся на вершину холма, у которого был расположен город, с восточной его
стороны, так чтобы открывалась река. Ну и удивительное зрелище предстало
мне! Я увидел множество кораблей, стоящих рядами, по четыре в каждом, иногда
по две-три таких линии во всю ширину реки; и это не только у самого города,
между домами Рэтклиффа и Редриффа, на пространстве, которое жители называют
Заводью, но и вниз по реке до самого мыса Лонг-Рич, то есть насколько горы
позволяли видеть.
Не могу точно сказать, сколько судов там было, но полагаю, что увидел
несколько сотен парусов; и я не мог не одобрить их изобретательности: ведь
более десяти тысяч людей, связанных с морским делом, могли укрыться здесь от
опасности заразы и жить в спокойствии и довольстве.
Я возвратился домой вполне удовлетворенный своим путешествием и
особенно своим новым знакомцем; радовала меня и мысль, что существуют такие
прибежища для многих семейств среди всеобщего опустошения. Кроме того, я
обнаружил, что, по мере того, как зараза распространялась, корабли, на
которых укрывались целые семьи, отплывали все дальше от города, пока, как
мне сказали, некоторые просто не вышли в море и не переправились к таким
портам и безопасным местам, до каких только смогли добраться.
Но нельзя сказать, что все, кто обосновался таким образом на воде на
борту корабля, полностью оградили себя от заразы: ведь многие умерли и были
выброшены за борт - кто в гробах, а кто и просто так, и люди видели, как их
тела всплывали потом с приливом ниже по реке.
Но, полагаю, могу с уверенностью сказать, что на корабли зараза
попадала либо потому, что люди перебирались на них слишком поздно, оставаясь
на берегу до тех пор, пока кто-нибудь из них не заражался (хотя и сам, быть
может, не знал об этом); таким образом, болезнь не приходила на корабль, а
кто-то просто приносил ее в себе самом; либо это случалось на тех судах,
которые, как сказал бедный лодочник, не успели запастись провизией и
вынуждены были часто посылать на берег за всякого рода вещами или разрешать
лодкам подплывать к ним с берега; и так незаметно им завозили заразу.
И здесь не могу не сделать нескольких замечаний о странном характере
лондонцев, весьма способствовавшем их бедствиям. Чума началась, как я уже
говорил, на другом конце города, а именно - в Лонг-Эйкре, Друри-Лейн и так
далее, и приближалась к Сити очень медленно и постепенно. Приближение это
почувствовали в декабре, потом в феврале, потом в апреле, и каждый раз это
были только отдельные случаи; затем болезнь затихла до мая; и даже на
последней неделе мая было отмечено только семнадцать случаев, и все на
другом конце города; и вот все это время, даже тогда, когда умирало более
трех тысяч в неделю, жители Редриффа, Уоппинга и Рэтклиффа по обе стороны
реки и почти вся Саутуэркская сторона все же продолжали держаться твердого
убеждения, что их не постигнет испытание или, во всяком случае, пройдет
стороной. Некоторые воображали, что их защищают пары вара, дегтя, а также
масел, древесной смолы и серы, сопутствующие корабельному ремеслу и
торговле. Другие утверждали, что чума достигла наибольшей силы в
Вестминстере и приходах Сент-Джайлс, Сент-Эндрюс и прочих, и начнет спадать,
прежде чем доберется до них, - и это в какой-то мере было верно. Например:
С 8 по 15 августа -
Сент-Джайлс-ин-де-Филдс 242
Крипплгейт 886
Степни 197
Сент-Маргерит, Бермондси {208} 24
Роттерхитт 3
Общее количество за неделю 4030
С 15 по 22 августа -
Сент-Джайлс-ин-де-Филдс 175
Крипплгейт 847
Степни 273
Сент-Маргерит, Бермондси 36
Роттерхитт 2
Общее количество за неделю 5319
N. В. - Надо отметить, что цифра, указанная по приходу Степни, в то
время относилась к той части прихода, где Степни примыкает к Шордичу (теперь
она именуется Спиттлфилдс) и подходит вплотную к Шордичскому церковному
кладбищу; а в то время чума как раз начала спадать в Сент-Джайлс-ин-де-Филдс
и свирепствовала в Крипплгейте, Бишопсгейте и Шордиче; но и десяти человек в
неделю не умирало от нее во всей той части прихода Степни, что включает
Лаймхаус, Рэтклиффскую дорогу и то, что теперь именуют приходами Шэдуэлл и
Уоппинг, вплоть до Сент-Кэтрин около Тауэра; и так продолжалось до конца
августа. Но жители Степни заплатили за это позднее, о чем я еще буду
упоминать по ходу рассказа.
Все это давало основание обитателям Редриффа и Уоппинга, Рэтклиффа и
Лаймхауса чувствовать себя в полной безопасности и тешить себя надеждой, что
чума уйдет, их не коснувшись, так что они не позаботились переехать в
сельские местности или запереться в домах. Да что там - они и не помышляли
об отъезде, а, наоборот, приглашали к себе друзей и родных из центра города,
и многие действительно нашли убежище в этой части Лондона как в месте
безопасном, которое, по их представлениям, Бог минует и не покарает в
отличие от остальных приходов.
Вот почему, когда хворь все же настигла их, они были более растерянны,
напуганны, неподготовленны, чем жители других мест; ведь, когда чума стала
здесь по-настоящему свирепствовать, то есть в сентябре и октябре, уже нельзя
было бежать в сельскую местность - никто не решился бы подпустить к дому
незнакомца, не впускали их и в другие города; и, как мне говорили, некоторых
из тех, кто ушел в сторону Сарри {209} (это направление не так охранялось и
было более лесистым, чем другие окрестности Лондона, особенно около Норвуда
{210} и приходов Кэмберуэлл {211}, Далледж {212} и Ласем), были найдены
умершими с голоду в лесах и полях, потому что, похоже, никто не решался
помочь доведенным до отчаяния беднягам из страха заразиться.
Результатом таких представлений среди жителей этой части города было в
какой-то мере и то, что, как я уже говорил выше, им пришлось искать спасения
на кораблях; и там, где это было сделано своевременно и обдуманно, где люди
так запаслись провизией, что им не было нужды сходить на берег или
подпускать к себе лодки, повторяю, в этих случаях пребывание на кораблях
было самым надежным укрытием; но беда заключалась в том, что многие бежали
на корабли в панике, не запасшись даже хлебом; кроме того, на кораблях
иногда не было команды, чтобы отвести их подальше от берега либо чтобы
спустить лодку и отправиться вниз по реке за провизией - туда, где ее можно
было без риска купить; такие часто страдали, заражаясь на борту корабля не
менее, чем если бы оставались на суше.
В то время как люди побогаче спасались на кораблях, бедняки забирались
на баржи, лихтеры {213}, смэки {214} и рыболовные баркасы; многие, особенно
лодочники, жили в лодках; но им приходилось плохо, и прежде всего
лодочникам, потому что, спускаясь на берег за провизией, да и чтоб
заработать на жизнь, они подхватывали заразу, свирепствующую в их среде с
прямо-таки опустошительной силой. Многие лодочники умирали в полном
одиночестве в своих лодках - в пути или под мостами - да так и оставались
лежать ненайденными, пока трупы не приходили в такое состояние, что к ним
опасно было приблизиться.
Поистине, беды людей, живших в портовой части города, были удручающи и
заслуживали всяческого сочувствия. Но увы! В то время собственная
безопасность так занимала каждого, что полностью вытесняла способность
сочувствовать посторонним: ведь у каждого стояла Смерть за порогом, а у
многих она уже посетила их семью, так что люди не знали, что делать и куда
податься.
Повторяю, это лишало людей способности сострадать; самосохранение стало
наипервейшим законом. И дети бежали от родителей, когда те чахли под
тяжестью болезни; а в других местах, хотя и реже, родители бросали детей; да
что там - бывали жуткие случаи, особенно два из них, произошедшие в течение
одной недели, когда больные матери в состоянии бреда и умопомешательства
убили собственных детей; один такой случай произошел поблизости от моего
дома: бедная женщина так и не пришла в себя, чтобы осознать, какой грех она
совершила, и понести наказание.
В этом не было ничего удивительного: ведь опасность близкой смерти
убивала все чувства любви и заботы о других. Я говорю в целом, хотя было
много примеров нерушимой любви, сострадания и чувства долга - об этом я знаю
по рассказам очевидцев, так что не отвечаю за верность подробностей.
Прежде чем рассказать об одном из таких случаев, позвольте сперва
упомянуть о том тяжелейшем положении, в котором в это бедственное время
оказались беременные женщины: ведь когда приходил срок рожать и у них
начинались схватки, некому было оказать им помощь; большинство повивальных
бабок перемерло, особенно те, что ходили за бедняками; а более известные
акушеры уехали из города; так что для бедной женщины, не располагавшей
большими деньгами, почти невозможно было найти повитуху, те же, которых
можно было нанять, оказывались, как правило, неумелыми и невежественными;
таким образом, невероятное число женщин оказалось в самом бедственном
положении. Некоторые были загублены самонадеянностью и невежеством тех, кто
брался им помогать. Несметное число детей было, можно сказать, убито теми же
невеждами, оправдывавшими себя тем, что они якобы спасают мать ценой жизни
ребенка; а во многих случаях погибали и мать и дитя, особенно если мать уже
была больна - тогда никто не решался приблизиться к ней, и она погибала
вместе с ребенком. Иногда мать погибала от чумы с наполовину вылезшим из
чрева ребенком или с ребенком, соединенным с ней пуповиной. Некоторые
умирали во время схваток, так и не разродившись; и случаев таких было
столько, что и не сосчитать.
Кое-что, подтверждающее эти слова, проникло в официальные сводки
смертности (хотя я далек от мысли, что там приведены точные данные) под
рубриками:
Умершие при родах
Выкидыши и мертворожденные
Умершие в первые дни жизни
Возьмем недели, когда чума особенно свирепствовала, и сравним их с
неделями того же года, но еще до начала мора. Например:
Умершие Выкидыши Мертво-
при родах рожденные
С 3 по 10 января 7 1 13
С 10 " 17 " 8 6 11
С 17 " 24 " 9 5 15
С 24 " 31 " 3 2 9
С 31 января
по 7 февраля 3 3 8
С 7 по 14 февраля 6 2 11
С 14 " 21 " 5 2 13
С 21 " 28 " 2 2 10
С 28 февраля
по 7 марта 5 1 10
48 24 100
С 1 по 8 августа 25 5 11
С 8 " 15 " 23 6 8
С 15 " 22 " 28 4 4
С 22 " 29 " 40 6 10
С 29 августа
по 5 сентября 38 2 11
С 5 по 12 сентября 39 23 -
С 12 " 19 " 42 5 17
С 19 " 26 " 42 6 10
С 26 сентября
по 3 октября 14 4 9
291 61 80
Учитывая разницу в этих двух таблицах, надо еще прибавить, что, по
мнению тех, кто остался в городе, население его за август-сентябрь
уменьшилось более чем на две трети по сравнению с январем-февралем. Короче
говоря, обычные цифры смертности по этим трем статьям, как мне говорили и
как это было в предшествующие годы, следующие:
1664 год
Умершие при родах 189
Выкидыши и мертворожденные 458 {215}
647
1665 год
Умершие при родах 625
Выкидыши и мертворожденные 617
1242
Эта разница, как я уже говорил, будет значительно больше, если учесть
общее количество людей. Я не утверждаю, что делал какие-либо точные подсчеты
людей, проживавших в то время в городе, но по ходу рассказа я еще приведу
вполне вероятные цифры. Сейчас же упомянул я об этом, лишь чтобы объяснить,
в каком плачевном состоянии находились эти бедные женщины; о них можно было
бы сказать словами Библии: "Горе же беременным и питающим сосцами в те дни;
ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей" {216}.
Сам я не общался с теми семьями, где такое случалось, но крики
несчастных были слышны и на большом расстоянии. Что касается беременных, то
нам показали некоторые подсчеты: 291 женщина скончалась от родов за девять
недель - более одной трети всех рожениц; обычно за такое же время умирало не
более 84. Пусть читатель сам поразмыслит над этим соотношением.
Несомненно, что те, кто кормили грудью, были в не менее бедственном
положении. Наши сводки смертности почти не проливали на это света, но
кое-что можно извлечь и из них. Больше, чем обычно, морили младенцев голодом
кормилицы, но это еще полбеды. Хуже, когда умирали просто от отсутствия
кормилицы: мать и другие члены семьи погибали от чумы, а детей находили
рядом с ними умершими просто от голода; по-моему, несколько сот бедных
беспомощных младенцев погибло только по этой причине. Другие умирали не с
голоду, а были отравлены кормилицами. Да что там, если мать, сама кормившая
грудью, заболевала, она отравляла собственное дитя, то есть заражала его
через свое молоко даже прежде, чем сама узнавала, что заразна; и ребенок
умирал в таких случаях раньше матери. Я не мог не сделать этого
предупреждения на случай, если когда-нибудь городу придется вновь пережить
такое же страшное бедствие: все беременные, а также кормящие грудью должны
покинуть город, если только у них есть хоть какая-нибудь возможность это
сделать, потому что их бедствия в случае болезни будут больше, чем у
остальных.
Я мог бы рассказать ужасающие истории о детях, сосущих грудь уже
умерших от чумы матерей {217} и кормилиц; об одной матери, живущей в моем
приходе, которая, заметив, что ее ребенку нездоровится, послала за
аптекарем; мне говорили, что, когда тот пришел, женщина кормила ребенка
грудью и на вид была совершенно здорова; но, когда аптекарь подошел поближе,
он заметил на ее груди, которую сосал ребенок, признаки болезни. Он был
сильно напуган, но, не желая пугать и бедную женщину, попросил передать ему
ребенка, когда он распеленал младенца и поднес его к свечке, то нашел
признаки болезни и у него; оба, и мать и дитя, умерли, прежде чем аптекарь
успел вернуться домой и прислать предохраняющее средство отцу семейства,
которому он сказал всю правду об их состоянии; заразил ли ребенок мать или
мать ребенка, неизвестно, хотя более вероятно последнее. Рассказывали также
историю о ребенке, которого взяли домой от кормилицы, умершей от чумы,
нежная мать не отказалась принять его и крепко прижала к груди свое дитя, от
чего и заразилась, да так и умерла, прижимая к груди мертвого уже ребенка.
И самые твердокаменные сердца обливались бы кровью, наблюдая, как часто
любящие матери ухаживали за своими детьми и даже умирали, заражаясь от них;
сами умирали, а дети, ради которых эти любящие сердца приносили себя в
жертву, выздоравливали и спасались {218}.
Подобный случай был с торговцем в Ист-Смитфилде; {219} у него жена была
беременна первым ребенком, и заболела она как раз, когда подоспело ей время
рожать. Муж не мог найти ни повивальной бабки принять роды, ни сиделки
ухаживать за ней, а двое слуг, которые были в доме, тут же сбежали. Он
кидался как полоумный от дома к дому, но помощи нигде найти не мог. И самое
большее, чего он добился, - это что сторож, приставленный к одному из
запертых домов, пообещал ему прислать к утру сиделку. Бедняга, до смерти
огорченный, вернулся домой, помогал, как умел, жене, заменяя повитуху,
принял мертвого ребенка; жена же скончалась у него на руках часом позже; он
так и сидел до утра с мертвой женой на руках, так и застал его сторож, когда
пришел и привел, как обещал, сиделку; они поднялись по лестнице (дверь была
либо вовсе не заперта, либо на щеколде) и нашли беднягу с мертвой женой на
руках, столь сраженного горем, что он умер через несколько часов без
каких-либо признаков болезни, а просто убитый постигшим его несчастьем.
Слышал я и о таких, которые после смерти своих близких впадали в
отупение и глубочайшую печаль; особенно об одном человеке, столь согбенном
постигшим его несчастьем, что голова его как бы вросла в плечи до такой
степени, что макушка едва возвышалась над плечами; он почти лишился и голоса
и рассудка, голова склонилась вниз, к ключицам, и только другой человек мог
руками приподнять ее; этот бедняга так и не пришел в себя, а хирел еще около
года и наконец умер. Никогда не видали, чтобы он поднял глаза и осмысленно
взглянул на что-нибудь.
Я могу рассказывать подобные истории лишь в общих чертах, так как
невозможно было узнать все в подробностях: ведь семьи, о которых идет речь,
иногда полностью вымирали. Но подобные картины были столь часты, что
представали взгляду и слуху, стоило выйти на улицу, как я уже говорил. Да и
нелегко рассказывать много историй, когда они почти ничем друг от друга не
отличаются.
Так как сейчас я рассказываю о времени, когда чума свирепствовала в
восточной части города, - о том, как люди долго воображали, что их минует
напасть, и как они были напуганы, когда болезнь их настигла (ведь она и
правда предстала внезапно, как разбойник с большой дороги), - повторяю,
рассказ об этом возвращает меня к тем троим беднягам, которые ушли из
Уоппинга куда глаза глядят, - о них я уже упоминал выше; один был - пекарь,
другой - починщик корабельных парусов, а третий - плотник. Все трое были из
Уоппинга и его окрестностей.
Я уже говорил, что спокойствие и видимость безопасности в этой части
города были таковы, что ее жители, в отличие от других, не помышляли об
отъезде, но похвалялись тем, что им опасность не угрожает; и вот многие из
Сити и из зараженных пригородов переехали в Уоппинг, Рэтклифф, Лаймхаус,
Поплар и другие безопасные места; и очень похоже на то, что именно это
способствовало скорейшему приходу сюда чумы. Так что, хотя я и сторонник
того, чтобы люди уезжали из таких городов, как Лондон, при первых же
признаках надвигающегося испытания, и чтобы все, кто имеет хоть какое-нибудь
пристанище, воспользовались им и покинули горел но должен сказать: когда
все, кто хочет уехать, уедет, то те, кто в городе, должны твердо оставаться
на своих местах, а не перебираться из одного конца города в другой или из
одной его части в соседнюю, иначе они будут сеять вокруг несчастье и смерть,
перенося чуму из дома в дом в самой своей одежде.
Не потому ли нам и велели уничтожить всех кошек и собак, что эти
домашние животные бегают из дома в дом, с одной улицы на другую и могут
разносить на шкурке и шерсти миазмы, или заразные испарения от заболевших? И
вот в самом начале мора по совету врачей было опубликовано распоряжение
лорд-мэра и магистрата, что все собаки и кошки должны быть немедленно
истреблены; и специальные люди были направлены для выполнения этого
распоряжения.
Просто невероятно, если верить их подсчетам, какое огромное количество
этих животных было истреблено. Помнится, они называли сорок тысяч собак и в
пять раз больше кошек: редкий дом обходился без кошки, а кое-где их было по
пять-шесть штук. Всевозможные ухищрения применялись и для того, чтобы
уничтожить мышей и крыс, особенно последних: разбрасывали крысиный яд и
другие вредоносные вещества, и великое множество крыс действительно
уничтожили.
Я часто размышлял о том, в сколь неподготовленном состоянии оказалось
все общество к началу этого бедствия и сколько последовало всякого рода
неразберихи из-за отсутствия вовремя принятых мер и приготовлений, равно
общественных и личных, а также о том, какое огромное количество людей
погибло из тех, что могли бы спастись, будь на то милость Божия, если бы
были приняты надлежащие шаги; все это следует учесть грядущим поколениям. Но
я еще скажу об этом позднее.
А сейчас возвращаюсь к тем троим. Эта история в любой своей части
содержит поучение, и поведение самих этих людей и некоторых из тех, кто был
с ними связан, остается примером для подражания всем бедным людям, в случае
если подобные времена повторятся. Думаю, что это - даже если бы не было
других причин - достаточное оправдание для рассказа, пусть и не все детали в
точности соответствуют в нем действительности.
О двоих из них говорили, что они братья: один - бывший солдат, а теперь
пекарь; другой - бывший моряк, а теперь починщик парусов; третий был
плотником.
И вот однажды Джон, пекарь, говорит брату своему Томасу, починщику
парусов:
- Братец Том, что с нами будет? Чума все сильнее свирепствует и
подбирается к этой части города. Что же нам делать?
- По правде говоря, - сказал Том, - я и сам не знаю, что делать, ведь я
понимаю, что, когда чума доберется до Уоппинга, меня выставят из квартиры,
которую я снимаю.
И тут они принялись обсуждать, что их ожидает.
Джон. Выставят из квартиры, Том! Если так, то я не представляю, кто
тебя пустит: ведь люди сейчас так боятся посторонних, что квартиру нигде не
снимешь.
Томас. Видишь ли, те, у кого я квартирую, - хорошие, сердечные люди и
очень добры ко мне; но они говорят, что я ежедневно хожу на работу, а это
становится опасно. Они поговаривают о том, чтобы запереться в доме и никого
к себе не пускать.
Джон. Что ж, они, конечно, правы, если уж они решили остаться в городе.
Томас. Ну, я мог бы даже принять решение запереться вместе с ними.
Ведь, если не считать этого набора парусов, который заказал мне хозяин и
который я уже заканчиваю, у меня, похоже, долго не будет работы. Сейчас
торговля совсем захирела, рабочие и слуги везде лишаются мест. Так что,
может быть, мне и неплохо было бы запереться вместе с ними, но не уверен,
что они согласятся на это.
Джон. Так что же тогда ты будешь делать, братец? И что делать мне? Ведь
я почти в таком же тяжелом положении! Семья, где я квартирую, уехала из
города, все, кроме служанки, да и та собирается на следующей неделе запереть
дом и уехать, так что меня выгонят на произвол судьбы еще раньше, чем тебя;
и я решился уйти из города, не знаю только - куда.
Томас. Мы оба сваляли дурака, что сразу же не ушли: тогда мы могли
отправиться куда угодно. А теперь идти некуда: мы умрем с голоду, если
покинем город. Нам не дадут пищи, не дадут даже за деньги, и не пустят в
города, а тем более в сельские дома.
Джон. Да у меня и денег-то почти нету - вот что хуже всего.
Томас. Ну, в этом отношении мы как-нибудь перебились бы. У меня кое-что
отложено, хотя и немного, но, повторяю, по дорогам далеко не уйдешь. Я знаю
двух честных парней с нашей улицы, которые также вот хотели уйти из города;
но не то около Барнета {220}, не то около Уэтстона им пригрозили, что будут
стрелять, если они попытаются двинуться дальше, так что они вернулись и
совсем пали духом.
Джон. Будь я на их месте, я не испугался бы такого огня. Если бы мне
отказали в пище за мои же денежки, я забрал бы ее насильно, а так как я
уплатил бы за нее, меня нельзя было бы привлечь к ответственности.
Томас. Ты рассуждаешь как старый солдат, будто ты все еще в
Нидерландах, а ведь дело это серьезное. В такое время, как сейчас, люди
имеют все основания держаться подальше от тех, за чье состояние здоровья не
могут они поручиться; и мы не должны их обирать.
Джон. Что ты, брат, ты не понял, о чем идет речь, и не понял моих
намерений. Я никого не хочу обирать; но если город, который встретится на
моем пути, не будет разрешать мне проехать через него по общественной дороге
и не будет позволять мне купить провизии на мои же деньги, значит, городу
дано право уморить меня голодом, а такого быть не может.
Томас. Но они же не запрещают тебе убраться восвояси, значит, они не
морят тебя голодом.
Джон. Но тот город, который я уже миновал, подчиняясь тому же правилу,
не позволит мне вернуться обратно, так что они таки заморят меня голодом до
смерти в конце концов. Кроме того, нет такого закона, чтобы запрещать
человеку ехать куда ему угодно.
Томас. Но придется испытать массу трудностей, препираясь с жителями в
каждом городе, какой встретится по дороге; такое путешествие не для бедняка,
особенно в наше время.
Джон. Что ж, брат, тогда наше положение самое скверное: мы не можем ни
остаться в городе, ни уйти. Я согласен с прокаженными из Самарии: "Если
останемся здесь, наверняка умрем" {221}. Я имею в виду наше с тобой
положение - без собственного дома и без наемного жилья. По теперешним
временам не поспишь на улице - это все равно, что прямо забираться в
погребальную телегу. Поэтому я и говорю: если мы останемся здесь, то
наверняка умрем, а если уйдем, то нам не останется ничего другого, как
умереть. Но я все же решил уходить.
Томас. Ну, допустим, ты уйдешь. Куда ты направишься и что станешь
делать? Я бы охотно ушел вместе с тобою, если б было куда. Но у нас нет ни
знакомых, ни друзей. Здесь мы родились, здесь и умрем.
Джон. Послушай, Том, все королевство ведь тоже моя родина, как и этот
город. Утверждать, что я не должен уходить из города, где я родился, если он
заражен чумой, все равно, что сказать, будто я не должен выходить из
собственного дома, если в нем начался пожар. Я рожден в Англии и имею право
жить в ней.
Томас. Но ты же знаешь, что, согласно английским законам, каждый
бродяга может быть арестован и отправлен в место своего законного
проживания.
Джон. Почему меня должны принять за бродягу? Я просто хочу
путешествовать и имею на это законные основания.
Томас. На каких это законных основаниях будешь ты путешествовать,
точнее, передвигаться пешком? Их красивыми словами с толку не собьешь.
Джон. А разве уходить, спасая собственную жизнь, - не законное
основание? И разве они не понимают, что это правда? Не могут они сказать,
что мы что-то скрываем.
Томас. Ну, допустим, они нас пропустят, куда мы пойдем?
Джон. Да куда угодно, лишь бы спасти свою жизнь. У нас будет время
подумать, когда мы выйдем из этого города. Если только я выберусь из этого
жуткого места, мне все равно, куда идти.
Томас. Мы доведены до крайности. Не знаю, на что и решиться.
Джон. Что ж, Том, подумай еще немного.
Это было в середине июля; и хотя чума бушевала в западной и северной
частях города, однако в Уоппинге, как я уже говорил, в Редриффе, Рэтклиффе,
Лаймхаусе и Попларе, короче, в Детфорде и Гринвиче и по обеим сторонам реки
от Эрмитажа и вплоть до самого Блэкуэлла было совершенно спокойно; никто еще
не умер от чумы во всем приходе Степни, никто - на южной стороне
Уайтчеплской дороги, ни в одном из приходов; а ведь как раз тогда недельная
сводка подскочила до 1006 человек.
Братья встретились вновь только через две недели, и положение к этому
времени несколько изменилось. Смертность достигла 2785 человек в неделю и
продолжала расти, хотя обе стороны реки в нижней ее части не были заражены.
Но к тому времени, когда Томас пришел к своему брату Джону, пекарю,
несколько человек уже умерло в Редриффе и пять-шесть - на Рэтклиффской
дороге. Томас был напуган и уже принял решение, так как его совершенно
определенно предупредили, что через неделю ему придется покинуть комнату,
которую он снимал. Его брат Джон находился в не менее бедственном положении,
потому что у него вовсе не было жилья - он с трудом умолил хозяина, у
которого работал пекарем, разрешить ему ночевать в сарайчике рядом с
пекарней, где он спал на соломе, подложив под себя, несколько мешков из-под
сухарей и покрываясь такими же мешками.
Теперь они порешили (видя, что работа кончается, а новых заработков не
предвидится), что лучше уйти подальше от этой страшной заразы; и, будучи
рачительными хозяевами, намеревались жить на те сбережения, которые у них
имелись, а когда все деньги выйдут, зарабатывать на жизнь любой работой,
какая подвернется, - и будь что будет.
Пока они размышляли, как им наилучшим способом осуществить свое
намерение, обнаружился еще один человек, хороший знакомый моряка, который,
узнав об их планах, захотел присоединиться к ним; и вот они стали готовиться
к отъезду.
Оказалось, что сбережения у них не равные; но так как бывший моряк,
самый богатый из них, был хромым и не мог рассчитывать много заработать в
деревне, он согласился, что все их деньги пойдут в общую кассу, с условием,
что и в дальнейшем все, что каждый из них заработает - не важно, больше или
меньше других, - будет также добавляться к общим деньгам.
Они решили как можно меньше нагружать себя багажом, так как собирались
поначалу идти пешком и отойти сразу подальше, так чтобы поскорее оказаться в
безопасных местах. И сколько же раз они совещались, прежде чем договориться
о маршруте! Даже в утро отбытия они не пришли еще к окончательному решению.
Наконец моряк сделал решающее замечание.
- Во-первых, - сказал он, - погода стоит жаркая, поэтому я за то, чтоб
идти на север, дабы солнце не палило в лицо и не било в глаза да чтобы
поменьше страдать от жары и духоты; и потом, мне говорили, что вредно
перегреваться, когда, вполне возможно, зараза витает в самом воздухе.
Во-вторых, - продолжал он, - я за то, чтобы мы шли навстречу ветру, то есть
чтобы ветер не надувал воздух города нам в спину, когда мы двинемся в путь.
Эти две предосторожности были одобрены, их решили учесть, если только
ветер будет не с юга, когда они двинутся на север.
Потом высказался Джон, пекарь, который раньше был солдатом.
- Прежде всего, - сказал он, - так как нам не удастся найти крова,
будет трудновато ночевать прямо на земле под открытым небом. Хоть сейчас и
теплая погода, однако ночью может быть сыро, а у нас есть особые основания
заботиться о здоровье в такое время. И поэтому, братец Том, раз ты шьешь
паруса, то мог бы с легкостью смастерить нам маленькую палатку, я буду
разбивать ее на ночь, а потом собирать - и кукиш всем гостиницам Англии.
Если у нас будет хорошая палатка, мы прекрасно устроимся.
Плотник не согласился с этим: да он готов хоть каждый вечер делать им
домик с одним только топориком и молотком без каких-либо других
инструментов, и это будет ничуть не хуже палатки.
Солдат и плотник некоторое время обсуждали этот вопрос, но в конце
концов солдат остановился на палатке. Единственное неудобство заключалось в
том, что ее надо было нести, и это сильно утяжеляло поклажу, а жара стояла
страшная; но солдату нежданно-негаданно выпало везение, и это сразу
упростило дело; у хозяина, на которого он работал, - тот занимался не только
торговлей парусами, но и канатами, - имелась старая полудохлая кляча, проку
от которой уже не было; и, желая помочь парням, он отдал им лошадь, чтобы
она несла их поклажу; а кроме того, за небольшую работу, отнявшую всего три
дня, которую Джон сделал для него напоследок перед отбытием, он отдал ему
старый потертый парус от брам-стеньги {222}, вполне пригодный для хорошей
палатки. Солдат показал, как ее раскроить, и вскоре под его руководством
сделали палатку и снабдили ее необходимыми жердями и планками; теперь все
было готово к путешествию, а именно: три человека, одна лошадь, одна палатка
и одно ружье, так как солдат отказался ехать невооруженным - теперь он уже
больше не пекарь, а военный, сказал он.
Плотник взял с собой небольшой чемодан с инструментами: они могли
пригодиться и для наемной работы, и им самим. Все деньги, какие у них были,
сложили они вместе и отправились в путь. В то утро ветер, как определил
моряк при помощи карманного компаса, был северо-западный. Так они и
направились, точнее, старались придерживаться северо-западного направления.
Но тут возникло одно затруднение: они отправлялись с того конца
Уоппинга, что был ближе к Эрмитажу, а чума особенно свирепствовала теперь на
севере города, в Шордиче и приходе Крипплгейт, так что они считали
небезопасным приближаться к тем местам; вот почему они двинулись к востоку
по Рэтклиффской дороге до Рэтклифф-Кросс {223} и, оставив слева позади
церковь Степни и побаиваясь идти от Рэтклифф-Кросс в сторону Майл-Энда, так
как им пришлось бы проходить как раз мимо кладбища, а западный ветер дул,
как назло, с той части города, где больше всего бушевала чума, повторяю, вот
почему, миновав Степни, избрали они окольный путь и, направляясь к Поплару и
Бромли, вышли на большую дорогу как раз около Боу.
Здесь сторож, охранявший мост в Боу, должен был бы их допросить, но они
вовремя сошли с дороги на узенькую тропинку, ведущую из Боу в Олд-Форд
{224}, избежав таким образом расспросов, и направились в Олд-Форд.
Констебли, похоже, не так строго относились к тем, кто просто проходил через
город и не собирался там останавливаться, так что их не задержали. А боялись
лондонцев из-за слухов, которые недавно распространились, а именно: будто
городская беднота, доведенная до отчаяния и оголодавшая из-за отсутствия
заработков, а значит, и хлеба, подняла смуту, вооружилась и собирается идти
грабить близлежащие города; и, право, это звучало не так уж невероятно. Это,
как я уже говорил, было только слухом, и, слава Богу, не оправдавшимся. Но
несколько недель спустя все чуть было не стало реальностью, когда беднота от
обрушившихся на нее несчастий дошла до такого отчаянного состояния, что
стоило огромного труда удержать ее от опустошительных набегов на поля и
окрестности города; и, как я уже говорил, удержало ее не что иное, как сама
чума: она так свирепствовала и бушевала, что тысячные толпы отправились не в
поля, а на кладбище; ведь в приходах Кларкенуэлл, Крипплгейт, Бишопсгейт,
Святого Гроба Господня {225} и Шордич - то есть в тех местах, где поведение
толпы было самым угрожающим, - болезнь так разбушевалась, что даже тогда -
до самого разгара болезни - за три первые недели августа там погибло не
менее 5361 человека, в то время как районов Уоппинга, Рэтклиффа, Роттерхита,
как я уже говорил, чума почти не коснулась, а если и коснулась, так только
слегка; словом, хотя, как уже говорилось, меры, принятые лорд-мэром и
мировыми судьями сильно способствовали тому, что ярость и отчаяние толпы не
вылились в разбой и волнения и бедные не начали, попросту говоря, грабить
богатых, - повторяю, хотя эти меры и сильно способствовали этому,
погребальные телеги пособили здесь еще лучше, потому что, как я уже говорил,
только в пяти приходах умерло за двадцать дней более пяти тысяч, так что,
вполне возможно, больных в это время было втрое больше: некоторые
выздоравливали, а огромное количество людей заболевало ежедневно и умирало
лишь спустя какое-то время; кроме того, позвольте заметить, если сводки
смертности показывали пять тысяч человек, то убежден, что можно было чуть ли
не удвоить цифру: не было никаких оснований доверять этим отчетам или
полагать, что при той неразберихе, которой я был свидетелем, они в состоянии
указывать точные цифры.
Но вернемся к моим путешественникам. Только здесь их опросили, но так
как казалось, будто они пришли скорее из сельской местности, чем из Лондона,
то отнеслись к ним благожелательно; с ними поговорили, разрешили зайти в
трактир, где находились констебль и охранники, принесли еды и питья, что
сильно освежило и подбодрило беглецов; и тут им пришло на ум сказать, когда
их будут спрашивать, что они идут не из Лондона, а из Эссекса.
При помощи этого небольшого мошенничества они так расположили к себе
констебля из Олд-Форда, что тот выдал им удостоверение, в котором значилось,
что они следуют деревнями из Эссекса и не заходили в Лондон; каковое
удостоверение, хотя и неверное в части зачисления Лондона в это графство,
было формально правильным, так как Уоппинг и Рэтклифф не являлись ни частью
Сити, ни его слободами.
Это удостоверение, будучи предъявлено констеблю в Хомертоне, одном из
поселков в приходе Хэкни, оказалось весьма полезным, так как на основании
его они не только прошли дальше, но и получили удостоверение о состоянии
здоровья, составленное по всей форме мировым судьей, который без труда выдал
его по просьбе констебля; итак, они миновали далеко растянувшийся (так как
он состоял из нескольких самостоятельных деревень) город Хэкни и продолжали
свой путь, пока не дошли до большой дороги на север у макушки Стэмфордского
холма {226}.
К этому времени они притомились; и вот у проселочной дороги из Хэкни,
неподалеку от того места, где она подходит к вышеупомянутой большой дороге,
собрались они разбить палатку и остановиться на первый ночлег, что они и
сделали, найдя амбар или что-то в этом роде; осмотрев его хорошенько и
убедившись, что там никого нет, они разбили палатку, оперев ее об амбар.
Сделали они так потому, что ветер дул очень сильный, а у них было мало опыта
в такого рода ночевках и в установке палаток.
Тут они и заснули; но плотнику, человеку осмотрительному и угрюмому,
недовольному, что они так спокойно расположились в первую ночь, не спалось;
и, после безуспешных попыток заснуть, он решил подняться, взять ружье и
стоять на часах, оберегая своих товарищей. И вот с ружьем в руках он стал
прогуливаться вдоль амбара, который был расположен неподалеку от дороги и
отделен от нее живой изгородью. Вскоре после того, как плотник встал на
часы, он услышал шум приближавшихся людей; казалось, целая толпа
направляется прямо к амбару. Он не стал сразу тревожить товарищей, но через
несколько минут шум так усилился, что пекарь окликнул его, спросив, что
происходит, и сразу же сам поднялся. Третий, особенно уставший из-за своей
хромоты, продолжал лежать в палатке.
Как им и казалось, люди, которых они слышали, шли прямо к амбару; тогда
один из наших путешественников крикнул, как солдат на посту:
- Кто идет?
Люди не ответили сразу, но было слышно, что один сказал, обращаясь к
кому-то сзади:
- Увы, нас ждет полнейшее разочарование: здесь уже расположились
какие-то люди до нас. Амбар занят.
Все остановились, похоже, в испуге; их было человек тринадцать, в том
числе и женщины. Они стали совещаться, что делать, и по их разговору наши
путешественники вскоре поняли, что перед ними бедные, доведенные до отчаяния
люди, ищущие, как и они, крова и безопасности; кроме того, нашим
путешественникам не было нужды опасаться, что их потревожат, так как при
первом же окрике "Кто идет?" было слышно, как женщины испуганно закричали:
- Не приближайтесь к ним. Почем вы знаете - может, у них чума.
Потом один из мужчин произнес:
- Давайте хотя бы поговорим с ними.
А женщины ответили:
- Нет-нет, ни в коем случае. Пока что нас Бог миловал, давайте же не
подвергать себя опасности, умоляем вас.
По этому разговору наши путешественники поняли, что перед ними хорошие,
богобоязненные люди, так же, как и они, сбежавшие ради спасения собственной
жизни. Их это успокоило, и Джон сказал своему товарищу плотнику:
- Давай-ка тех успокоим, - и окрикнул их: - Эй, добрые люди, мы поняли
из вашего разговора, что вы бежите от того же страшного врага, что и мы. Не
бойтесь нас: мы всего лишь трое бедняков. Если вы не заразны, никто вас тут
не обидит. Мы не в самом амбаре, а в маленькой палатке здесь, снаружи; и мы
можем передвинуться: нам ничего не стоит разбить свою палатку в любом другом
месте.
После этого начался разговор между плотником, которого звали Ричард, и
одним из новоприбывших, который назвался Фордом.
Форд. И вы можете заверить нас, что все здоровы?
Ричард. Мы как раз и хотели сказать вам, что вы можете не волноваться и
чувствовать себя в полной безопасности; но мы не хотим, чтобы у вас
оставались сомнения, и потому, как я уже сказал, мы амбаром не пользовались
и можем уйти отсюда, чтобы и вы и мы были в безопасности.
Форд. Вы добры и великодушны; но если вы убеждены, что действительно
здоровы и не распространяете заразу, то зачем же нам заставлять вас искать
другое место, когда вы уже расположились здесь, похоже, устроились на
ночлег? Мы, с вашего разрешения, войдем в амбар и ляжем спать, не тревожа
вас.
Ричард. Да, но вас больше, чем нас. Надеюсь, вы тоже все здоровы: ведь
опасность представляем как мы для вас, так и вы для нас?
Форд. Да будет благословен Господь, охранявший доселе некоторых чад
Своих! Какова будет наша дальнейшая судьба, мы не ведаем, но пока что
Господь нас хранил.
Ричард. Из какой части города вы пришли? Добралась ли чума до тех мест,
где вы жили?
Форд. Увы, увы, она свирепствует самым жутким образом, а не то мы
никогда бы не сорвались с места; и, похоже, в наших краях никто не переживет
ее.
Ричард. А откуда вы?
Форд. Большинство из Крипплгейтского прихода. Только один-двое из
Кларкенуэлла, из той его части, что ближе к нам.
Ричард. А почему же вы раньше не ушли?
Форд. Нас последнее время не было в городе. Мы держались все вместе,
сколько могли, и жили в ближайшей к нам части Излингтона, в старом
заброшенном доме. Были у нас белье и кое-какие самые необходимые вещи - то,
что нам удалось с собой прихватить. Но чума добралась и до Излингтона, и
соседний с нашим бедным жилищем дом был заперт, так как туда пришла зараза.
И тут мы совсем напугались и ушли.
Ричард. А куда вы идете?
Форд. Куда глаза глядят. Уповаем, что Господь не оставит тех, кто
взывает к Нему.
На этом их разговор прекратился; все подошли к амбару и, не без труда,
залезли в него. В амбаре ничего не было, кроме сена, но сена было вдоволь, и
они прекрасно устроились на ночлег; однако путешественники слышали: до того,
как отойти ко сну, старик, который, похоже, был отцом одной из женщин,
прочел вместе со всеми молитву, прося Господа благословить их и указать
правильный путь.
В это время года светало рано, и так как Ричард, плотник, стоял на
страже первую часть ночи, то теперь его сменил Джон, солдат. Тут и он начал
знакомиться с новоприбывшими. Когда те покинули Излингтон, они хотели
продвигаться на север, к Хайгейту {227}, но были остановлены в Холлоуэйе
{228}, и дальше их не пустили; так что они пробирались полями и холмами в
восточном направлении, пока не вышли к Бордед-Ривер, и так, обходя города,
они оставили Хорнси {229} по левую руку, а Ньюингтон {230} - по правую и
подошли к большой дороге у Стэмфордского холма с противоположной стороны. А
теперь они думали пересечь реку и болотами добираться до Эппингского леса
{231}, где надеялись утроиться на отдых. Похоже, они были не бедны, во
всяком случае, не настолько бедны, чтобы сильно нуждаться; короче, у них
было достаточно, чтобы скромно прожить два-три месяца, а к этому времени,
сказали они, есть надежда, что холода остановят заразу, или, во всяком
случае, мор пойдет на убыль, исчерпав себя, хотя бы уж потому, что
большинство перемрет и некого будет заражать.
Примерно такие же планы были и у наших путешественников, только они
были лучше экипированы и хотели идти дальше на север; первая же компания не
собиралась отходить от Лондона далее, чем на один день пути, так чтобы
каждые три-четыре дня иметь сведения о том, что происходит в столице.
Однако тут наши путешественники оказались неожиданно для себя в
затруднительном положении; дело было в лошади: ведь для того, чтобы она
несла на себе поклажу, они должны были держаться дороги, в то время как
другая компания шла как придется - через поля, независимо от того, была ли
там дорога, тропинка или вовсе ничего; не было у них необходимости и
проходить через города или приближаться к ним, разве что для того, чтобы
закупить там провизию, а это им удавалось с большим трудом, о чем еще пойдет
речь в свое время.
Наши же беглецы должны были держаться дороги, в противном случае они
наносили бы местности большой урон: ломали бы изгороди и калитки, топтали бы
огороженные поля; а этого им вовсе не хотелось делать.
В то же время они были не прочь присоединиться к той компании и
разделить их участь; посоветовавшись, они отвергли свой первоначальный план
идти на север и решили всем вместе отправиться в Эссекс; так что поутру они
сложили палатку, нагрузили лошадь и двинулись в путь все вместе.
Непросто было им переправиться на другой берег: лодочник у переправы
боялся их везти, но после некоторых переговоров на расстоянии он согласился
оставить им лодку в стороне от переправы, чтобы они могли ею
воспользоваться; когда они переправились, он указал им, где оставить лодку,
и сказал, что у него есть другая, на которой он приедет за этой, однако
сделал это он, кажется, по прошествии не менее восьми дней {232}.
Здесь, дав перевозчику деньги вперед, они пополнили запас провизии и
питья: он принес все в лодку и оставил там; но, как я сказал, не раньше чем
получил деньги вперед. Наши же путешественники тем временем ломали голову:
как переправить лошадь на другой берег - ведь лодка была слишком мала для
нее; в конце концов им пришлось снять с лошади всю поклажу и заставить ее
переплыть реку.
Переправившись через реку, путешественники пошли к лесу, но, когда они
достигли Уолтэмстоу {233}, жители этого городка, в отличие от других мест,
не пропустили их. Констебль и состоящие при нем сторожа заговорили с ними,
держась на почтительном расстоянии. Пришлось давать все те же объяснения, но
это не помогло, так как две-три компании уже проходили здесь, а потом
несколько человек в городе заболело, после чего к чужакам стали так дурно
относиться в этой местности (хотя и вполне заслуженно), что около Брентвуда
{234} несколько человек умерло в полях - от болезни или просто от нужды и
отчаяния, никто не знал.
Так что было вполне понятно, почему жители Уолтэмстоу стали так
осторожничать и решили не принимать никого, о ком не знали точно, что они
здоровы. Но когда Ричард-плотник и тот человек, который вел с ним
переговоры, сказали, что это еще не повод перекрывать дороги и запрещать
людям проходить через город, коль они просто хотят пройти по улицам и ничего
больше не просят; и что, ежели жители боятся, они могут зайти в дома и
запереть двери, - повторяю, когда они все это сказали, слушатели не выказали
ни радушия, ни враждебности, а просто продолжали заниматься своим делом.
Констебль и его приспешники все упрямствовали и ни о чем не хотели
слышать; так что тем двоим, кто вел переговоры, пришлось вернуться к
товарищам и держать совет, как быть дальше. Положение в целом сложилось
неутешительное, и долгое время они не могли решить, что им делать; наконец
Джон, солдат и пекарь, подумав, сказал:
- Ладно, поручите дальнейшие переговоры мне.
До тех пор он в переговорах не участвовал. Он поручил Ричарду-плотнику
нарезать жердей и придать им, насколько возможно, форму ружей; и вскорости у
него уже было пять-шесть прекрасных мушкетов, которые издали вполне можно
было принять за настоящие; вокруг той части, где затвор, он приказал
обмотать их всяким тряпьем, как делают солдаты в сырую погоду, чтобы
предохранить затвор от ржавчины; остальное же, насколько возможно, заляпать
глиной и грязью; остальные должны были все это время сидеть под деревьями по
двое и по трое на большом расстоянии друг от друга и разводить костры.
Тем временем он и еще двое-трое людей разбили палатку в переулочке,
неподалеку от заграждения, которым жители города перекрыли проход, и
поставили перед ней часового с настоящим ружьем, единственным, какое у них
было; часовой расхаживал взад-вперед перед палаткой с ружьем на плече, и
жители города могли прекрасно это видеть. Неподалеку, к калитке изгороди, он
привязал лошадь, а по другую сторону палатки развел огонь, так что горожане
могли видеть пламя и дым, но не знали, что там происходит у костра.
После того как горожане увидели все это и решили, что пришельцев очень
много, их стало более смущать не то, что они пройдут через город, а что они
останутся здесь; кроме того, решив, что у тех есть лошади и ружья, так как
они видели одну лошадь и одно ружье у палатки, а также людей в отдалении, за
изгородью, разгуливавших с мушкетами через плечо (или тем, что они приняли
за мушкеты), - повторяю, можете представить себе, как, увидев все это, они
переполошились, напугались и, похоже, пошли к мировому судье узнать, что им
делать. Какой совет дал им судья, я не знаю {235}, но ближе к вечеру жители
городка подошли к заграждению, о котором я уже говорил, и окликнули часового
у калитки.
- Что вам нужно? - спросил Джон {Похоже, Джон находился в палатке, но,
услышав окрик, он вышел, взял ружье на плечо и говорил с ними так, будто он
часовой, поставленный более высоким начальством. (Примеч. авт.)}.
- Так что же вы собираетесь делать? - спросил констебль.
- Делать? - пробурчал Джон. - А что вы хотите, чтобы мы делали?
Констебль. Почему вы не уходите? Зачем вы здесь расположились?
Джон. А почему вы остановили нас на дороге Его Величества и хотите
запретить нам продолжать наш путь?
Констебль. Мы не обязаны давать вам объяснения, хотя и сказали уже, что
это из-за чумы.
Джон. А мы вам сказали, что все мы здоровы и не источаем заразы, хотя и
не были обязаны это делать; и все равно вы не разрешаете нам пройти.
Констебль. Мы имеем право задержать вас; забота о собственной
безопасности обязывает нас это сделать. Кроме того, это не королевская, а
платная дорога {236}, вы же видите, тут ворота, и, пропуская людей, мы
взымаем дорожный сбор.
Джон. Мы имеем такое же право заботиться о собственной безопасности,
как и вы; и вам должно быть понятно, что мы уходим, чтобы спасти свою жизнь,
поэтому, останавливая нас, вы поступаете несправедливо и совсем не
по-христиански.
Констебль. Вы можете вернуться, откуда пришли, мы вам не запрещаем.
Джон. Нет уж, там нас поджидает враг пострашнее вас, а не то мы никогда
сюда бы не явились.
Констебль. Что ж, тогда вы можете идти в любом другом направлении.
Джон. Нет-нет. Вы, надеюсь, понимаете, что мы можем наплевать на вас и
на всех жителей вашего прихода и пройти через город, когда пожелаем; но раз
уж вы остановили нас здесь, пусть будет по-вашему. Видите, мы разбили лагерь
и собираемся здесь жить. Надеюсь, вы станете снабжать нас едой.
Констебль. Снабжать едой! Что вы хотите этим сказать?
Джон. Ну, не собираетесь же вы морить нас голодом! Раз вы остановили
нас здесь, вы должны нас содержать.
Констебль. Ну, если вы будете на нашем попечении, то содержать вас
будут плохо.
Джон. Если вы намереваетесь держать нас впроголодь, мы сами обеспечим
себе лучший прием.
Констебль. Не хотите же вы сказать, что будете квартировать у нас
силой?
Джон. Пока что мы не прибегали к насилию. Почему вы заставляете нас
сделать это? Я старый солдат и не привык голодать, а если вы надеетесь, что
мы уйдем обратно из-за отсутствия провизии, то вы ошибаетесь.
Констебль. Если вы угрожаете, то мы постараемся собрать силы не
меньшие, чем у вас. Я подниму на вас всю округу.
Джон. Это вы, а не мы, угрожаете. И, раз уж вы напрашиваетесь на
неприятности, то пеняйте сами на себя - вы прямо сейчас их и получите; через
несколько минут мы войдем в город {Это испугало констебля и его подручных, и
они сразу сменили тон. (Примеч. авт.)}.
Констебль. Так чего вы хотите?
Джон. Прежде всего мы ничего не хотим, кроме свободного прохода через
город; мы не нанесем вам никакого урона, ни малейшего вреда. Мы не воры, а
несчастные люди, спасающиеся от ужасов чумы, которая в Лондоне пожирает
тысячи жизней еженедельно. Удивляюсь, как вы можете быть столь немилосердны!
Констебль. К этому нас обязывает забота о собственной безопасности.
Джон. Что я вижу! Полное отсутствие сострадания к несчастьям ближнего!
Констебль. Ну, если вы обогнете город полями справа, я отопру вам
ворота.
Джон. Наши всадники {У них была одна-единственная лошадь. (Примеч.
авт.)} с багажом не смогут там пройти; а потом, это не выведет нас на ту
дорогу, какой мы хотели идти. Почему вы не даете нам идти своим путем? И еще
- вы задержали нас здесь на целый день без еды, кроме той, которая была при
нас. Я полагаю, вы обязаны снабдить нас провизией.
Констебль. Если вы пойдете иным путем, мы пришлем вам провизию.
Джон. Ведь так же и другие города в этой местности будут поступать с
нами!
Констебль. Если они согласятся снабжать вас пищей, так чего вам еще?
Палатки у вас есть, в жилье вы не нуждаетесь.
Джон. Ну хорошо, а сколько провизии вы нам пришлете?
Констебль. А сколько вас человек?
Джон. Ну, мы не просим так, чтобы хватило на всех. Мы идем тремя
группами. Если вы пошлете хлеба так, чтобы его хватило на три дня пути на
двадцать мужчин и шесть-семь женщин, и укажете нам, как пройти теми полями,
о которых вы говорили, мы свернем с намеченного пути и не будем нагонять на
вас страху, хотя, повторяю, мы не более заразны, чем вы сами {Тут он позвал
одного из своих людей и велел ему передать капитану Ричарду, чтобы тот со
своим отрядом отправился низиной по другой стороне болота и встретился с ним
в лесу; все это был, конечно, обман, ведь не было ни капитана Ричарда, ни
его отряда. (Примеч. авт.)}.
Констебль. И вы дадите слово, что другие ваши группы нас больше не
потревожат?
Джон. Да-да, можете на меня положиться.
Констебль. Вы также должны пообещать, что никто из ваших людей не
пройдет ни на шаг дальше того места, где мы положим для вас провизию.
Джон. Хорошо, я за них отвечаю.
Соответственно им принесли двадцать караваев хлеба и три-четыре больших
куска хорошей говядины, потом отперли ворота, через которые те и прошли; но
у жителей не хватило храбрости даже поглазеть, как они проходят мимо;
правда, был уже вечер, так что если б они и глазели, то все равно не
разглядели бы толком, как их мало.
Все это придумал Джон, солдат. Однако они так взбудоражили всю округу,
что, если бы их действительно было две-три сотни, их бы либо послали в
тюрьму, либо избили, так как вся округа поднялась против них.
Они поняли это дня через два, когда встретили несколько групп всадников
и пеших людей, преследовавших, как они сказали, три отряда, вооруженных
мушкетами, которые недавно сбежали из Лондона; среди них есть больные чумой,
и они не только распространяют заразу, но и грабят округу.
Когда они увидали последствия своего обмана и опасное положение, в
котором оказались, то решили, опять-таки по совету старого солдата,
разделиться. Джон и его товарищи вместе с лошадью ушли прочь, как бы к
Уолтэму; другие две компании порознь двинулись к Эппингу.
Первую ночь все они провели в лесу, неподалеку друг от друга, но не
разбивали палатку, чтобы их не обнаружили. Вместо этого Ричард поработал
топориком и молотком и смастерил из ветвей три шалаша, в которых они
разместились со всеми возможными удобствами.
Провизии, которой их снабдили, хватило им на следующий день с избытком;
что же касается дальнейшего - они полагались на милость Провидения. С
помощью старого солдата они так хорошо вышли из затруднительной ситуации,
что теперь добровольно пригнали его своим вожаком; и он сразу же дал им
хороший совет. Он сказал, что теперь они достаточно далеко отошли от
Лондона; сказал, что, раз они нуждаются в сельских жителях только для
пополнения запасов продовольствия, то им лучше подальше держаться от них,
чтобы селяне не заразили их, и, наоборот, они - селян; сказал, что те
небольшие сбережения, которые у них есть, надо расходовать как можно
экономнее и что, так как он не собирается прибегать к насильственным
действиям, то советует приложить все усилия, чтобы по возможности ладить с
местными жителями. Они вверились его руководству и на следующий день,
покинув три своих временных жилища, направились к Эппингу. Капитан (теперь
его так называли) я и двое товарищей отложили свое первоначальное намерение
идти в Уолтэм, и все отправились в путь одной компанией.
Приблизившись к Эппингу, они остановились и выбрали подходящее место на
опушке леса - с северной стороны, не у самой дороги, но и не слишком далеко
от нее, под сенью нескольких низких подстриженных деревьев. Здесь они и
разбили лагерь, состоящий из трех больших навесов, или шалашей, сделанных
плотником и его помощниками из жердей, срезанных и закрепленных ими по кругу
в земле, а наверху связанных концами и переплетенных по бокам ветками.
Шалаши получились теплыми и защищали от ветра и дождя. Кроме того, у них
была маленькая палатка для женщин, которых они поместили отдельно, и навес
для лошади.
Случилось так, что не то на следующий день, не то через день после их
появления в Эппинге был большой рынок; капитан Джон с одним из подручных
купили там кое-что из провизии, а именно: хлеба и немного свинины и
говядины; две женщины из их компании тоже пошли на рынок как бы сами по себе
и купили еще еды. Джон прихватил с собой лошадь, чтобы отвезти все это
домой, и сумку, в которой плотник держал свои инструменты, чтобы было куда
положить покупки. Плотник принялся за работу и смастерил им скамьи, стулья и
что-то вроде стола, - то, что получилось из растущих поблизости деревьев.
Два-три дня на них не обращали внимания, но потом много народу
прибегало из города поглазеть на них, и вся округа была встревожена их
появлением. Вначале люди побаивались к ним приближаться; однако им очень
хотелось, чтобы незваные гости ушли, так как прошел слух, что в Уолтэме чума
и что дня через три она доберется до Эппинга; поэтому Джон крикнул зевакам:
- Прошу не приближаться. Мы тут все здоровые и не хотим, чтобы вы
занесли нам чуму или думали, что это мы вам ее занесли.
После этого приходские власти, держась на расстоянии, пришли поговорить
с ними и узнать, кто они и по какому праву расположились здесь. Джон честно
отвечал, что они несчастные, отчаявшиеся жители Лондона; что, предвидя
бедствия, которые принесет чума, когда распространится по всему городу, и не
имея в провинции родственников и друзей, чтобы к ним переехать, они вовремя
перебрались в Излингтон; но чума распространялась все дальше; и так как они
предполагали, что жители Эппинга могут не разрешить им войти в город, они
разбили лагерь в лесу на открытом воздухе, предпочитая переносить все
неудобства такого жилья, чем вызывать опасения, что они могут кому-либо
навредить.
Поначалу жители Эппинга говорили грубо и советовали им убираться прочь:
утверждали, что здесь им не место, что они только притворяются, будто
здоровы, тогда как среди них могут оказаться и больные, даже если они сами
этого не знают, и они могут перезаразить всю округу, так что оставаться
здесь им никак нельзя.
Долгое время Джон очень спокойно объяснялся с ними; сказал, что Лондон
для них - то есть жителей Эппинга и округи - источник существования: именно
туда везут они плоды земли своей, именно оттуда получают деньги на
поддержание своего хозяйства; и проявить жестокость к жителям Лондона, как и
к любому другому, кому ты стольким обязан, будет черной неблагодарностью; им
самим же станет потом стыдно вспоминать, как негостеприимно, грубо,
враждебно отнеслись они к лондонцам, когда те бежали от самого жуткого
врага, какой только существует на свете; что их поведение сделает имя
эппингцев ненавистным для всей столицы и толпа будет бросать в них камнями
на улицах, когда они захотят пробраться к рынку; что не исключено, что и их
посетит то же несчастье - ведь, как он слышал, чума уже достигла Уолтэма, -
и они сами узнают, когда кто-либо из них, пока еще не заразился, побежит от
опасности, каково это, когда тебе не разрешают даже расположиться в поле под
открытым небом.
Жители города отвечали, что, хотя Джон и утверждает, будто все они
здоровы и не распространяют заразу, положиться на это никак нельзя; им
рассказывали, что в Уолтемстоу пришла целая толпа, делавшая такие же
утверждения, однако они угрожали ограбить город и силой проложить себе путь,
невзирая на приходские власти; их было около двух сотен, с оружием и
палатками, какие использовались солдатами, принимавшими участие в
нидерландском походе; и они вымогательством получили у жителей провизию,
похваляясь оружием, угрожая силой стать на постой и грубо бранясь
по-солдатски; некоторые из них пошли в Рамфорд и Брентвуд и перезаразили там
жителей, так что чума распространилась и на эти крупные города, и люди там
не решаются пользоваться рынком, как раньше; и очень похоже, что они из той
же компании, а коли так, то их надо упрятать в тюрьму и держать под замком,
пока они не уплатят за весь урон, который нанесли, да еще и за страх и
панику, вызванные ими в округе.
Джон сказал, что они не ответчики за других и что они все из одной
компании, он за это ручается, и было их именно столько - не больше и не
меньше (что, кстати, соответствовало истине); что они сначала шли двумя
разными группами, а потом объединились, так как цель у них одна; что они
готовы все рассказать о себе каждому, кто этим интересуется, а также
сообщить свои имена и места проживания, так что их можно будет призвать к
ответу в случае, если они причинят кому-либо урон; жители города видят, что
они готовы жить, терпя все неудобства, и просят лишь разрешить им иметь
совсем небольшое пространство и дышать местным более здоровым воздухом; но
если жители хотят, чтобы они расположились лагерем в каком-либо другом
месте, они так и сделают.
- Но у нас своих бедняков хватает, живущих за счет прихода, - сказали
жители города, - и наша забота, чтобы число их не увеличивалось; вы не
можете дать гарантий, что не будете обременительны для прихода и горожан,
как не можете дать гарантий, что не будете опасны - мы имеем в виду заразу.
- Послушайте, - сказал Джон, - относительно того, что мы будем жить за
ваш счет, не беспокойтесь. Если вы поможете нам с продовольствием - я имею в
виду самое необходимое - мы будем очень вам благодарны; и так как дома никто
из нас не живет на пожертвования, то полностью заплатим за все, если только
Богу угодно будет вернуть нас домой, к нашим семьям, и если лондонцы вновь
будут здравствовать. А если кто-либо из нас умрет, то заверяю вас, что
оставшиеся в живых похоронят его и не введут вас ни в какие расходы, если,
конечно, мы все не умрем; тогда последнего из умерших вам придется
похоронить, но и в этом случае, полагаю, после него останется достаточно
денег, чтобы оплатить расходы. Если же, наоборот, вы закроете сердца свои
для сострадания и вовсе не поможете нам, мы не будем принуждать вас силой,
не будем и воровать, но когда у нас иссякнут все наши скромные запасы и мы
погибнем с голоду, да свершится тогда воля Божия!
Джон так воздействовал на жителей города своими разумными и спокойными
речами, что те ушли, и хотя не дали им разрешения остаться, но все же не
досаждали нм более; бедняги прожили так три-четыре дня, и никто их не
беспокоил; за это время они ознакомились с продуктовой лавкой на окраине
города, куда изредка заходили, чтобы купить кое-какие необходимые мелочи, за
покупки они неизменно расплачивались.
Постепенно молодые парни из города стали частенько к ним приближаться,
стоять и глазеть на них, а то и заговаривать, сохраняя все же дистанцию; и
тут было замечено, что в воскресный день бедняги отдыхают, молятся Богу всем
миром и поют псалмы.
Это, как и спокойное безобидное поведение, постепенно завоевало
расположение горожан, те стали жалеть их и отзываться о них с симпатией; и
вот однажды, в один очень сырой и дождливый день некий джентльмен, живший по
соседству, послал им небольшую тележку с двенадцатью пуками, или вязанками,
соломы, чтобы они могли использовать ее и для постелей, и для покрытия
крыши, дабы та не протекала. Приходский священник, со своей стороны, послал
им около двух бушелей {237} пшеницы и полбушеля гороха.
Они, разумеется, были весьма благодарны за эту помощь, особенно солома
пришлась кстати: ведь хотя изобретательный плотник и смастерил им для сна
что-то вроде корыт, которые они заполняли листьями и всем, чем могли, а
материал для палатки нарезали на покрывала, однако спать все равно было
сыро, жестко и вредно для здоровья. Поэтому солома показалась им пухом или,
как выразился Джон, более желанной, чем в других обстоятельствах пуховая
перина.
Джентльмен и священник подали пример благотворительности, и ему тотчас
же последовали другие, так что не проходило дня, чтобы скитальцы не получали
от жителей города тот или иной знак расположения, но больше всего - от
джентльмена, жившего по соседству. Одни посылали им стулья, табуретки, столы
и то из домашней утвари, о чем просили переселенцы, другие - одеяла,
подстилки и покрывала, глиняную посуду {238} и кухонные принадлежности,
чтобы готовить пищу.
Ободренный хорошим отношением местных жителей, плотник в несколько дней
построил им дом со стропилами, настоящей крышей и вторым этажом, где они
могли жить в тепле: ведь погода к началу сентября стала более сырой и
промозглой. А этот дом, хорошо крытый соломой, с крепкими стенами и крышей,
не пропускал холод. Он сложил также глиняную стену в одном из углов, а в ней
- очаг; а еще один человек из их компании с большими трудами и мучениями
соорудил дымоход, чтобы дым не шел в помещение.
Здесь они и жили - с удобствами, но непритязательно - до начала
сентября, когда дошли до них дурные вести - насколько правдивые или нет, -
неизвестно: будто чума, которая свирепствовала в Уолтэм-Эбби, с одной
стороны, и в Ромфорде и Брентвуде - с другой, подбирается также к Эппингу,
Вудфорду {239} и большинству городков, расположенных в лесу, а
распространяется она, как говорили, торговцами-разносчиками, теми, кто ходит
с провизией в Лондон и обратно.
Если это верно, то это полностью противоречит утверждениям,
повсеместным в Англии, которые, однако, я не могу подтвердить ссылкой на
собственный опыт, будто рыночные торговцы, приезжавшие в город с провизией,
никогда не заражались сами и не несли заразу в сельские местности; и то и
другое, как говорили мне, неверно.
Возможно, они заражались меньше, чем можно было бы ожидать: ведь многие
приходили, уходили и оставались здоровы, хотя ничего чудесного в том не
было; это очень ободрило лондонскую бедноту: она оказалась бы в совсем
отчаянном положении, если б люди, привозившие продукты на рынок, не
ухитрялись бы избегнуть заразы, во всяком случае, избегнуть в большей
степени, чем можно было бы ожидать.
Однако теперь наши новоселы стали не на шутку тревожиться: ведь города
вокруг них были сильно заражены, и им стало боязно выходить за нужными
вещами, а это очень стесняло: у них не осталось почти ничего помимо того,
чем снабжал их сердобольный джентльмен. Но, к счастью, случилось так, что
другие окрестные помещики, которые ничего не посылали им раньше, теперь,
прослышав о них, стали помогать: один прислал свинью, откормленную на убой,
другой - двух овец, а третий - теленка. Короче, мяса им хватало, а иногда у
них бывали сыр, молоко и прочее. Хуже всего было с хлебом, потому что, хотя
джентльмен и прислал им пшеницу, им негде было молоть ее и печь из нее хлеб.
Так что два первых бушеля им пришлось съесть, подобно древним израильтянам,
в слегка поджаренных зернах, а не измолоть и выпечь хлебы {240}.
Наконец они нашли способ отнести зерно на ветряную мельницу около
Вудфорда, там его смололи, а потом пекарь Джон так хорошо и сильно протопил
очаг, что стало возможно выпекать в нем вполне приличные лепешки; и вот они
стали жить без какой-либо помощи из городов, и правильно сделали, так как
вскорости вся округа была заражена, и поговаривали, что около ста двадцати
человек уже умерли в близлежащих деревнях.
Они снова собрались на совет, однако теперь уже горожане не боялись,
что они расположатся неподалеку от них; наоборот, кое-кто из самых бедных
покинули дома и построили в лесу хижины, подобно нашим путешественникам.
Однако было замечено, что болезнь уже проникла в некоторые из этих хижин или
палаток. Причиной тому, очевидно, было вовсе не то, что они расположились
под открытым небом, а скорее, что они вовремя не расположились там, то есть
прежде чем, свободно общаясь с соседями, заразились от них; теперь же они
повсюду тащили за собой заразу. А кроме того, они были недостаточно
осторожны уже после того, как благополучно перебрались в лес - заходили в
город и общались с зараженными людьми.
Но как бы там ни было, когда наши путешественники поняли, что чума
добралась не только до городов, но и до палаток и хижин в лесу, неподалеку
от них, они стали не просто бояться, но и подумывать о переезде, так как
оставаться здесь стало опасно для жизни.
Неудивительно, что они с величайшим огорчением думали о необходимости
покинуть место, где их так хорошо приняли, где отнеслись к ним с таким
состраданием и благожелательством. Но опасение и страх за собственные жизни,
которые им пока удалось сохранить, пересилили, и им не оставалось другого
выхода. Джон, однако, и тут придумал, что делать в их новом несчастье: решил
рассказать джентльмену, их главному благодетелю, о бедственном их положении
и просить его совета и помощи.
Добрый джентльмен поддержал их намерение покинуть это место, так как
опасался, что у них позднее может не остаться пути к отступлению, настолько
заражена будет вся округа; но вот куда им направиться, - этого он и сам не
знал. Наконец Джон спросил, может ли он, будучи мировым судьей, дать им
удостоверение о состоянии здоровья, чтобы они могли предъявлять его другим
должностным лицам, с которыми им придется столкнуться; джентльмен сказал,
что, какова бы ни была их дальнейшая судьба, в настоящее время нет оснований
отказывать им в этой просьбе, так как они давным-давно покинули Лондон. Его
благородие обещал это исполнить, и действительно дал им удостоверение о
здоровье, с которым они могли идти куда пожелают.
В этом весьма подробном удостоверении о состоянии здоровья было
сказано, что они жили в такой-то деревне графства Эссекс, что в течение
более сорока дней были отрезаны от всякого общения с внешним миром, после
чего были тщательно осмотрены и обследованы и не обнаружили никаких
признаков болезни; на этом основании они признаны безусловно здоровыми и
могут пребывать, где им будет угодно, так как они покинули место своего
последнего пребывания из страха заразиться чумой, которая уже приближалась к
этому месту, а не потому, что заметили признаки заразы у себя или своих
знакомых.
С этим удостоверением они и двинулись в путь, хотя и с большой
неохотой; и так как Джон не собирался уходить особенно далеко от дома, они
направились к болотам по ту сторону Уолтэма. Но тут им повстречался человек,
который смотрел за плотиной на реке, поднимая воду для барж, которые сновали
по ней взад-вперед; он напугал их жуткими рассказами о болезни,
распространившейся во всех городах вдоль реки и неподалеку от нее со стороны
Миддлсекса и Хардфордшира {241}, а именно: в Уолтэме, Уолтэм-Кроссе {242},
Энфилде {243}, Уэре, да и во всех остальных городах на пути, так что они
побоялись идти в том направлении (хотя, похоже, человек этот их надул и в
действительности все обстояло иначе).
Однако в тот момент все это их напугало, и они решили двигаться через
лес к Ромфорду и Брентвуду. Но им стало известно, что туда бежало множество
жителей Лондона, которые расположились неподалеку от Ромфорда в лесу под
названием Хэнот-Форест; эти люди, лишенные средств к существованию и крова
над головой, не только терпели страшные лишения в лесах и полях ввиду
полного отсутствия помощи, но и, доведенные до отчаяния этими бедствиями,
стали разбойничать - грабить и воровать, убивать скот и тому подобное;
другие же, смастерив себе хижины и шалаши вдоль дороги, просили милостыню,
причем не столько даже просили, сколько вымогали ее; так что в округе все
пребывали в сильном неудовольствии и кое-кого даже вынуждены были
арестовать.
Это сразу же подсказало нашим путешественникам, что едва ли следует
рассчитывать там на ту доброту и милосердие, какие они нашли здесь; кроме
того, их будут расспрашивать, откуда они пришли, и они рискуют стать
жертвами нападения таких же беженцев, какими сами являются.
Приняв во внимание все эти соображения, Джон, их капитан, отправился к
доброму джентльмену, их другу и благодетелю, который и раньше неизменно
помогал им; правдиво рассказав ему об их положении, Джон смиренно просил
совета, и тот посоветовал им вновь занять старое жилище или перебраться
немного подальше от дороги, в глубь леса и указал подходящее место; а так
как им нужен был настоящий дом, а не хижина, чтобы укрываться от холодов в
это время года - уже приближался Михайлов день, - они нашли старый
заброшенный дом, прежде чей-то коттедж, теперь же совершенно обветшавший и
едва ли пригодный для жилья; и фермер, на чьей территории дом находился,
разрешил им использовать его, как они пожелают.
Изобретательный плотник с помощью остальных принялся за работу, и через
несколько дней в доме стало возможным укрыться от холода и непогоды; там
были камин и очаг, хотя и полуразрушенные, они починили их и сделали еще
кое-какие усовершенствования - пристройки с односкатными крышами с обеих
сторон, так что дом стал достаточно просторным, чтобы вместить всех.
Больше всего нужны были доски для оконных рам, полов, дверей и прочего;
но, так как джентльмен, о котором уже говорилось, благоволил к ним, да и вся
округа с ними примирилась, а главное, так как теперь было известно, что все
они совершенно здоровы, то все и помогали им, как могли.
Здесь они и устроились насовсем, решив никуда более не переезжать. Они
видели, с какой тревогой и подозрительностью встречали всех, бежавших из
Лондона; было очевидно, что они лишь с неимоверным трудом смогут где-нибудь
устроиться и, уж во всяком случае, никогда не найдут такого дружеского
приема и помощи, как в этом месте.
Однако, несмотря на огромную помощь и поддержку от джентльмена и других
жителей округи, приходилось им нелегко: в октябре-ноябре погода стала
сырая и холодная, а они были непривычны к таким невзгодам; так что многие
подхватили простуду и разболелись, однако чумой никто из них так и не
заразился; и вот, в начале декабря, они вернулись обратно в Лондон.
Я рассказал эту историю так подробно, главным образом для того, чтобы
можно было вообразить, какое огромное количество людей сразу же появилось в
столице, как только болезнь стала утихать; ведь, как я уже говорил,
множество из тех, кто имел пристанище или друзей в сельской местности,
воспользовались этим. А когда зараза распространилась самым ужасающим
образом, люди, даже не имевшие никакого пристанища вне города, разбежались
по всем уголкам страны в поисках крова, причем равно - как те, кто имели
деньги, так и те, кто их не имел. Первые обычно уходили дальше, так как
располагали средствами к существованию; те же, у кого карман был пуст,
испытывали, как я уже говорил, большие лишения; подчас нужда заставляла их
удовлетворять собственные потребности за счет местных жителей. В результате
в провинции косо смотрели на пришельцев, а иногда брали их под стражу, но и
тогда местные жители не знали, что с ними делать, так как им вовсе не
хотелось никого наказывать; но их частенько гнали из одного места в другое,
пока не вынуждали вернуться обратно в Лондон.
Узнав историю Джона и его брата, я начал расспрашивать и обнаружил, что
масса горемык, таких же несчастных, как они, бежали в провинцию; многие из
них находили какие-нибудь навесы, амбары, сараи, где и располагались на
жилье, если местные жители по доброте своей это им разрешали, особенно же
если удавалось дать удовлетворительные объяснения, а главное, заверить, что
они покинули Лондон не слишком поздно. Но чаще всего приходилось строить
себе шалаши и хижины прямо среди полей и лесов или жить отшельниками в ямах
и пещерах, в любом месте, какое смогли найти; люди терпели страшные лишения,
так что многим пришлось вернуться в Лондон, несмотря на опасность заразы;
поэтому шалаши часто оставались пустыми, а местные жители, считая, что их
обитатели, скончавшись от чумы, лежат там мертвыми, долгое время боялись
даже приближаться к ним; могло и правда случиться, что несчастные скитальцы
умирали одни-одинешеньки, просто из-за отсутствия помощи; в одной хижине
нашли мертвого мужчину, и на воротах изгороди, как раз рядом с хижиной, были
вырезаны ножом неровные буквы, по которым можно было предположить, что
остальные ушли или что один умер первым, а другой похоронил его как умел:
О гОрЕ!
Мы ОбА пОгиБнем,
БЕдА, БЕдА!
Я уже рассказывал о том, что я обнаружил на реке, там, где живут люди,
чья профессия связана с морем; о кораблях, стоящих на рейде, как говорится,
рядком, кормой к корме, и так от Заводи вниз по реке, сколько видит глаз.
Мне говорили, что они стоят так до самого Грейвсэнда {244}, а то и ниже,
везде, куда они могут безопасно зайти (я имею в виду ветер и погоду); и
никогда я не слышал, чтобы чума пробиралась к ним на борт, - за исключением
тех, что стояли в Заводи или выше Детфорд-Рича, - хотя люди с них частенько
сходили на берег в местные городки, деревушки и отдельные фермы, чтобы
закупить свежей провизии - птицы, свинины, говядины и прочего.
Я обнаружил также, что лодочники находили способ пробираться выше Моста
{245} вверх по реке, насколько возможно, и что многие возили с собой в
лодках семьи, укрывая их под навесами, а снизу подкладывая солому; они так и
стояли вдоль болотистых берегов; иногда семьи на день сходили на сушу и
разбивали из парусов небольшие палатки, на ночь же вновь возвращались в
лодки; мне говорили, что берега реки были просто усеяны лодками с людьми,
если только им удавалось найти пропитание в сельской местности, и что
местные жители, и дворяне и простой люд, были очень доброжелательно к ним
настроены, помогали как могли, но ни в коем случае не хотели, чтобы те
заходили к ним в города и в дома, за что их нельзя осуждать.
Мне рассказывали про одного горожанина, перенесшего страшное испытание:
жена и все дети его погибли, остался он один с двумя слугами и пожилой
женщиной, близкой родственницей, которая самоотверженно ухаживала за его
семьей, пока те болели. Безутешный этот бедняга пошел в близлежащую деревню,
которая еще не значилась в сводках смертности, нашел там пустующий дом и, с
разрешения его владельца, снял его. Несколько дней спустя он нанял телегу,
нагрузил ее своими пожитками и отправил все к новому дому; жители деревни не
пропускали сначала телегу, но люди, везшие вещи, частично уговорами,
частично силой, проложили себе путь по улицам вплоть до самых дверей дома.
Там, однако, им воспротивился констебль, не разрешивший внести вещи в дом.
Человек распорядился разгружать и отпустить телегу, а вещи сложить у дверей,
после чего его потащили к мировому судье, то есть велели ему идти, и он сам
пошел. Судья приказал снова нанять телегу, чтобы увезти вещи прочь, однако
хозяин вещей отказался; тогда судья велел констеблю разыскать возчиков с
телегой, привести их обратно и потребовать, чтобы те вновь погрузили пожитки
и увезли прочь либо сложили все в кучу до дальнейших распоряжений; если же
возчиков не удастся разыскать или же хозяин откажется забрать свои вещи, то
их следует крючьями оттащить от дверей дома и сжечь посреди улицы. После
этого бедный измученный человек увез свои пожитки с горестными причитаниями
и жалобами на свою злую судьбу. Но выхода не было; самосохранение заставляло
людей идти на такие жестокости, на какие они никогда не решились бы при
других обстоятельствах. Умер ли или остался в живых этот бедняга, не могу
сказать; поговаривали, что он и сам к этому времени уже заразился чумой, но,
возможно, люди утверждали это, чтобы оправдать свое поведение; однако весьма
вероятно, что и сам он, и его пожитки были опасны, так как семья его умерла
от чумы совсем незадолго до этого.
Мне известно, что обитателей городков в окрестностях Лондона сильно
осуждали за жестокость к тем беднягам, которые в ужасе бежали туда от
заразы; говорили, что с ними обращались крайне сурово, о чем свидетельствует
только что рассказанный случай; но должен сказать, что там, где
благотворительность и помощь не были сопряжены с прямой опасностью, люди не
скупились на них. Но так как в каждом городе была своя ситуация, то
доведенные до отчаяния бедняги, убежавшие из Лондона, нередко нарывались на
дурное обращение, а порой их просто выдворяли назад; все это вызывало
бесконечные нарекания и жалобы на провинциальные города и делало возмущение
всеобщим.
Однако, несмотря на все предосторожности, не было ни одного города в
радиусе десяти (а я думаю, что и всех двадцати) миль, который не был бы в
той или иной степени заражен и где не гибли бы люди. В некоторых городах
цифры погибших от чумы мне известны:
В Энфилде 32
Хорнси 58
Ньюингтоне 17
Тоттнеме {246} 42
Эдмонтоне {247} 19
Барнете и Хэдли {248} 19
Сент-Элбэнсе {249} 121
Уотфорде {250} 45
Элтаме {251} и Ласеме 85
Кройдоне {252} 61
Брентвуде 70
Ромфорде 109
Баркинг-Эбботе {253} 200
Брентфорде {254} 432
Оксбридже {255} 117
Хартфорде {256} 90
Уэре 160
Ходадоне 30
Уолтэм-Эбби 23
Эппинге 26
Детфорде 623
Гринвиче 231
Кингстоне {257} 122
Стейнсе {258} 82
Чертси {259} 18
Виндзоре {260} 103
Cum aliis {261}
Другой причиной, еще сильней восстанавливавшей сельских жителей против
горожан, особенно бедняков, было то, что, как я уже говорил, заболевшие
имели явную склонность намеренно заражать других.
Среди докторов шли долгие споры о причинах такого поведения {262}.
Некоторые утверждали, что это присуще самой болезни и что каждый больной
одержим злобой и ненавистью к себе подобным, будто вредоносность болезни
проявляется не только в физических признаках, но и искажает саму натуру,
подобно ворожбе или дурному глазу или подобно тому, как ведет себя
взбесившаяся собака {263}, которая до болезни была добрейшим животным, а
теперь кидается и кусает любого, кто попадается ей на пути, включая и тех, к
кому раньше была очень привязана.
Другие относили это за счет испорченности человеческой природы - будто
людям невыносимо осознавать себя более несчастными, чем окружающие, и они
невольно стремятся, чтобы все вокруг были столь же несчастны и нездоровы,
как и они.
Третьи говорили, что все это лишь следствие отчаяния, когда люди сами
не понимают, что делают, и потому не заботятся оградить от опасности не
только окружающих, но и самих себя. И действительно, если человек доведен до
такого состояния, что сам себя не помнит и не заботится о собственной
безопасности, стоит ли удивляться тому, что он безразличен и к безопасности
окружающих?
Но я хочу направить все эти ученые споры в совершенно иное русло и
сразу же разрешить их, сказав, что сомневаюсь в самом исходном факте. Более
того, я утверждаю, что это вовсе не соответствовало действительности, а
распространялось жителями близлежащих деревень, настроенными против горожан,
чтобы узаконить или хотя бы оправдать те жестокости и недоброжелательство, о
которых столько рассказывали и которыми возмущались обе стороны; горожане
настаивали, чтобы их приняли и дали приют в их бедственном положении, и
часто, уже заразные, жаловались на жестокость и несправедливость сельских
жителей, отказывавших им в гостеприимстве и вынуждавших вернуться домой
вместе с семьями и пожитками; а местные жители, когда на них так напирали и
лондонцы врывались к ним силой, жаловались, что заболевшие чумой не только
не заботились об окружающих, но и сознательно заражали их; ни то, ни другое
не соответствовало действительности, во всяком случае тому, какими красками
это расписывалось.
Правда, надо сказать, что среди сельских жителей часто распространялись
тревожные слухи, будто лондонцы решились прорваться к ним силой, и не только
за помощью, но и чтобы разбойничать и грабить, будто зараженные свободно
бегают прямо по улицам города, и никто их не останавливает, не запирает в
домах и не содержит их так, чтобы заболевшие не заражали здоровых; в то
время как, надо отдать лондонцам справедливость, ничего подобного не было,
если не считать исключительных случаев, таких, о которых я упоминал, и им
подобных. Наоборот, все делалось так заботливо, содержалось в таком
образцовом порядке и в самом городе, и в его окрестностях трудами лорд-мэра,
олдерменов, а в пригороде - мировых судей и церковных старост, что Лондон
мог бы служить для городов всего мира примером образцового управления и
полного порядка, неизменно соблюдаемого даже в самый разгар поветрия, когда
люди были в полном оцепенении от ужаса и отчаяния. Но я еще буду говорить об
этом в своем месте.
Однако об одном здесь все же следует упомянуть, к чести магистрата, и
отнести это прежде всего за счет его осмотрительности, а именно: об
умеренности в большом и трудном деле запирания домов. Правда, я уже говорил,
что практика запирания домов вызывала сильнейшее неудовольствие в народе;
пожалуй, можно сказать, единственное из действий властей, которое вызывало в
то время неудовольствие: ведь запирать здоровых люден вместе с больными все
считали ужасным, и жалобы людей, заточенных таким образом, были отчаянными.
Они были прекрасно слышны на улицах, причем иногда содержали угрозы, хотя
чаще взывали к состраданию. У запертых людей не было иного способа
поговорить с друзьями, как через окно, и частенько своими рассказами они
надрывали сердца не только знакомых, но и случайных прохожих, которые их
слышали; а так как в этих жалобах они нередко упрекали сторожей за
жестокость и оскорбления, то и сторожа отвечали на это достаточно дерзко, а
подчас и препятствовали людям на улице разговаривать с запертыми в домах
семьями, за что, а также за дурное обращение с вверенными им людьми,
семь-восемь сторожей в разных местах города было убито. Не знаю только,
можно ли это в прямом смысле назвать убийством, так как не вникал в
подробности этих случаев. Действительно, сторожа находились при исполнении
служебных обязанностей и делали работу, порученную им законными властями, а
лишение жизни любого должностного лица во время исполнения служебных
обязанностей, по закону, называется убийством. Но так как сторожа не
получали указаний от магистрата или от своего непосредственного начальства
наносить вред и оскорбления ни людям, вверенным их попечению, ни тем, кто
принимал участие в судьбе заболевших, то можно сказать, что, делая это, они
поступали как частные, а не как должностные лица; и, следовательно, если они
навлекали на себя несчастье своим недостойным поведением, эти действия были
направлены против них лично; и действительно (не знаю - заслуженно или нет),
им слались проклятия, и, что бы с ними ни приключилось, никто не
сочувствовал им, все утверждали: они того заслуживают. Не припомню я и чтобы
кого-нибудь наказывали, во всяком случае, наказывали достаточно строго, за
ущерб, нанесенный сторожу.
О том, на какие ухищрения пускались люди, чтобы выбраться из запертых
домов и убежать, как они обманывали сторожей или принуждали их силой, я уже
говорил и не буду долее останавливаться на этом. Но должен добавить, что
магистрат значительно облегчал положение таких семей во многих отношениях,
особенно по части помещения больных людей, когда они были согласны, в чумные
бараки и подобные места, а иногда в разрешении здоровым членам семьи, после
подтверждения, что они здоровы, перебраться в другое место при условии, что
они сами запрутся там на определенный властями срок. Магистрат проявлял
большую заботу и о снабжении этих несчастных зараженных семей, - я имею в
виду снабжение их всем необходимым, будь то пища или лекарство, - причем
власти не удовлетворялись тем, что отдавали соответствующие приказания
подчиненным, но олдермен собственной персоной верхом на лошади регулярно
подъезжал к таким домам и спрашивал их обитателей через окно, хорошо ли за
ними ухаживают, не нуждаются ли они в чем-либо необходимом, выполняют ли их
поручения сторожа и приносят ли они им то, что те просят. И если ответ был
положительный, все было в порядке, если же поступали жалобы на плохое
снабжение, на пренебрежение сторожей к своим обязанностям, на грубое
обращение, они (я имею в виду сторожей) тут же увольнялись и другие
ставились на их место.
Конечно, жалобы могли оказаться несправедливыми, и если у сторожа
имелись доводы, убеждавшие магистрат, что он был прав и люди облыжно
обвинили его, он оставался на своем посту, а обвинившие его получали
внушение. Но разбирательство в такого рода делах было затруднительно, так
как непросто было переговариваться с запертыми людьми через окно. Поэтому
магистрат обычно вставал на сторону запертых и заменял сторожа, так как при
этом наносилось меньше вреда и проистекало меньше дурных последствий; видя,
что сторож обвинен облыжно, магистрат тут же устраивал его в другое подобное
место; если же наносился вред семье, то его ничем нельзя было возместить,
урон был непоправимый, так как речь шла о жизни и смерти.
Помимо случаев побегов, о которых я уже рассказывал, самые разные
недоразумения возникали между сторожем и теми беднягами, кого он караулил.
Иногда сторож уходил со своего поста, иногда был пьян, иногда спал крепким
сном, когда был нужен людям; все эти случаи строго наказывались, как они
того и заслуживали.
Но что бы в конце концов ни делалось в подобных случаях, практика
запирания домов и содержания под одной крышей больных и здоровых имела
огромные неудобства и зачастую последствия ее были трагичны, о чем стоило бы
рассказать подробнее, будь здесь достаточно места. Но она предписывалась
законом и преследовала целью в основном общественное благополучие, а весь
урон для частных лиц при проведении ее в жизнь должен был окупаться
общественным благом.
До сих пор неясно, дало ли это что-либо по части противодействия
заразе; я, по правде сказать, не могу ответить тут положительно: ведь
невозможно и представить себе большего разгула болезни, когда она достигла
наивысшей точки, хотя зараженные дома запирались, насколько это было
возможно, неукоснительно. Разумеется, если бы все заразные были заперты, то
здоровые люди не могли бы от них заболеть, так как не смогли бы даже
приблизиться к ним. Но дело было вот в чем (здесь я лишь упомяну об этом
вскользь): болезнь распространялась невольно теми людьми, которые внешне не
казались заразными и не подозревали ни о том, что они больны, ни о том, где
именно они подхватили заразу.
Один из домов в Уайтчепле заперли, потому что там заболела служанка; у
нее были только пятна, а не бубоны, и она поправилась; однако обитатели дома
не имели права покидать его стены - чтобы сходить за чем-либо или подышать
свежим воздухом - в течение сорока дней. Недостаток воздуха, страх,
огорчение, обида и прочие "прелести", сопровождавшие это мучительное
положение, вызвали лихорадку у хозяйки дома, и проверяющие, вопреки
утверждениям доктора, сказали, что это чума. Так что в результате проверки
наблюдателей был установлен новый срок карантина, хотя до конца прежнего
оставалось лишь несколько дней. Это новое злоключение, лишившее всех
возможности свободно передвигаться и дышать свежим воздухом, так возмутило и
огорчило семейство, что почти все члены его расхворались: у одного заболело
то, у другого - другое; у большинства же было цинготное недомогание и только
в одном случае - сильные колики; так им и продлевали карантин до тех пор,
пока кто-то занимавшийся проверкой состояния больных и решавший, можно ли
дом наконец открыть, не занес им чуму, так что большинство из них перемерло,
и не от того, что чума якобы изначально была в доме, а от чумы, занесенной
теми самыми людьми, которые должны были бы принимать все меры, чтобы
оградить от нее население. И такие вещи случались неоднократно; это было
одним из самых неприятных последствий запирания домов.
Примерно в это же время приключилась одна неприятность, которая
поначалу меня страшно огорчила и встревожила (однако, как потом оказалось,
она не принесла мне никакого урона), именно: олдермен Портсоукенского округа
назначил меня одним из наблюдателей района, в котором я жил. У нас был
большой приход; в нем работало не менее восемнадцати наблюдателей, как, по
закону, их называли; в народе же их авали просто "визитерами". Я старался
всеми силами отвертеться от этого назначения, привел все доступные доводы,
чтобы убедить посланцев олдермена не назначать меня; особенно же я налегал
на то, что вообще не поддерживаю идеи запирания домов и что очень жестоко
заставлять меня быть орудием мер, против которых восстает мой разум и
которые, я убежден, не отвечают тем целям, ради коих они предпринимаются; но
все послабление, которого удалось мне добиться, свелось лишь к тому, что,
хотя обычно на эту службу люди назначались лорд-мэром сроком на два месяца,
мне было разрешено покинуть ее через три недели, однако при условии, что к
этому времени я найду какого-либо другого подходящего домохозяина,
согласного отслужить за меня до конца срока, короче, это была совсем
небольшая поблажка, так как отнюдь не просто было найти достойного человека,
согласного на такую работу.
Надо признать, что запирание домов имело один положительный результат,
- это я и тогда понимал, - а именно: удерживало заболевших в домах, тогда
как в противном случае они стали бы бегать по улицам, разнося заразу; в
состоянии бреда они были очень к этому склонны и стали уже так поступать в
самом начале мора, пока их не решились удерживать силой; да что там -
поначалу бедняки нередко ходили по домам попрошайничать, говорили, что у них
чума и им нужно тряпье перевязать болячки или еще что-нибудь в этом роде -
все, что ни придет на ум в бредовом состоянии.
Одна несчастная молодая женщина, жена вполне достойного горожанина,
была убита (если верить рассказам) таким вот типом на Олдергейт-стрит или в
ее окрестностях. Тот в сильном бреду шел по улице, распевая песни; люди
думали, что он пьян, но сам он утверждал, будто болен чумой, и, похоже,
говорил правду; встретив эту молодую женщину, он захотел поцеловать ее.
Женщина страшно испугалась, приняв его за грубияна, и бросилась прочь со
всех ног; но улицы были безлюдны и не к кому было обратиться за помощью.
Увидев, что он ее нагоняет, она повернулась и толкнула его с такой силой,
что мужчина, ослабев от болезни, упал навзничь. Но, к несчастью, ему удалось
схватить ее и опрокинуть вместе с собой; потом, поднявшись первым, он
облапил ее, поцеловал и - самое ужасное, - сообщив, что у него чума,
спросил, почему бы ей тоже не поболеть? Женщина и так уж была до смерти
напугана (она к тому же была на первых месяцах беременности), но, узнав, что
у него чума, вскрикнула и упала в обморок; и этот припадок (хотя она потом и
пришла в себя), не прошло и нескольких дней, все же убил ее. Я так и не
узнал, заразилась она чумой или нет.
Другой заболевший постучался в дом своих хороших знакомых; узнав от
слуги, открывшего дверь, что хозяин наверху, он поднялся по лестнице и вошел
в комнату, где сидело за ужином все семейство. Они с удивлением повставали с
мест, не понимая, что происходит, но он попросил их спокойно сидеть - он
зашел лишь проститься.
- Что вы, мистер ***, - спросили его, - куда это вы собрались?
- Куда собрался? Я болен и умру завтра ночью.
Легче представить себе, чем описать словами охвативший всех ужас.
Женщины и хозяйские дочки, совсем еще маленькие девочки, почти до смерти
напугались {264}, вскочили, кинулись одна к одной двери, другая - к другой,
кто вниз по лестнице, кто - вверх; наконец, собравшись все вместе, они
заперлись наверху в спальнях и стали из окон взывать о помощи. Похоже, от
страха они совсем потеряли голову. Хозяин, более сдержанный, хотя тоже
напуганный и возмущенный, хотел было в сердцах прибить гостя и спустить его
вниз по лестнице, но потом сообразил, в каком состоянии тот находится и
сколь опасно прикасаться к нему, и остался стоять как вкопанный, оцепенев от
ужаса.
Заболевший бедняга, не только недужный телом, но и повредившийся
мозгами, тоже стоял столбом.
- Ну-ну, - совершенно спокойно произнес он, - что это с вами со всеми?
Похоже, я потревожил вас. Коли так, пойду помирать домой.
Сказав это, он сразу же стал спускаться по лестнице. Слуга, впустивший
его, следовал теперь сзади со свечой, но побоялся обогнать его и отворить
дверь: он так и остался на лестнице и ждал, что предпримет больной. Тот
подошел к двери, отпер ее, вышел на улицу и захлопнул дверь за собой. Прошло
немало времени, прежде чем семья опомнилась от испуга. (Но так как никаких
дурных последствий не было, они, будьте уверены, еще много времени спустя
вспоминали об этом случае с большим удовольствием.) Больной ушел, но прошло
немало времени - не менее нескольких дней, - прежде чем они оправились от
страха, который тот на них нагнал; да и по дому они не решались ходить, пока
хорошенько не прокурили всякими благовониями все комнаты, не напустили дыму
от смолы, пороха и серы, каждого по отдельности, пока не перестирали всю
одежду и тому подобное. Что же касается бедного джентльмена, то не припомню
сейчас, умер он или остался жив.
Не подлежит сомнению, что, если бы при помощи запирания домов больных
не ограничивали в передвижении, то во время сильного жара, в бреду и
беспамятстве, многие из них бегали бы взад-вперед по улицам города и даже,
как это в ряде случаев и бывало, нападали бы на прохожих, подобно бешеным
собакам, кусающим каждого, кто попадется им на пути; не сомневаюсь я и в
том, что ежели бы какой заразный больной в припадке неистовства
действительно укусил бы кого-либо, то тот (я имею в виду укушенного)
непременно заразился бы той же болезнью со всеми соответствующими признаками
хвори.
Я слыхал об одном заболевшем, который, не выдержав боли в бубонах - их
было у него целых три, - вскочил с постели в одной рубашке, надел башмаки и
собирался было накинуть кафтан, но сиделка воспротивилась этому и вырвала
кафтан у него из рук; тогда он повалил сиделку и, перешагнув через нее,
побежал в одной рубашке вниз по лестнице, и прямехонько на улицу, к Темзе;
сиделка выбежала за ним и крикнула сторожу, чтобы тот задержал его; но
сторож, сам напуганный, не решился к нему прикоснуться и дал бедняге уйти;
тот подбежал к Стиллярдскому спуску, скинул рубаху, бросился в Темзу и,
будучи хорошим пловцом, переплыл реку; вода, что называется, прибывала, то
есть двигалась в западном направлении, так что он достиг другого берега лишь
у Фелконского спуска, где и вылез на сушу; не встретив никого из людей (все
это происходило ночью), он довольно долго бегал нагишом по улицам, потом,
когда прилив кончился, вновь кинулся в реку, вернулся к Стиллярду, вылез на
берег, добрался до своего дома, постучался, поднялся по лестнице и залез в
постель; и этот жуткий эксперимент вылечил его от чумы; дело в том, что
резкие движения руками и ногами при плавании растянули места, где находились
бубоны (а именно, под мышками и в паху), и привели к тому, что те созрели и
прорвались; а холодная вода уменьшила жар в крови.
Остается только добавить, что я рассказал эту, как и некоторые другие
истории, не будучи их свидетелем, и не могу поручиться за их правдивость;
особенно в отношении того, что больной излечился после этого удивительного
приключения, что, признаюсь, мне кажется очень сомнительным; но история эта
подтверждает тот факт, что больные в состоянии бреда или, как говорят, в
беспамятстве были склонны бегать по улицам и что таких людей было бы намного
больше, если бы их не удерживали запертые дома; в этом, по-моему,
заключалась едва ли не единственная польза этого сурового метода.
В то же время на него была масса нареканий и жалоб. Сердце надрывалось
слышать горестные крики больных, которые, пребывая в беспамятстве от болей
или от высокой температуры, были заперты, а то и привязаны к кроватям или
креслам, чтобы они ничего не могли над собой сотворить, и которые страшно
возмущались таким к себе отношением и тем, что им не дают, как они
выражались, умереть по всем правилам, как раньше.
Появление заболевших на улице было очень огорчительно, и магистрат
делал все от него зависящее, чтобы предотвратить подобные вещи; но так как
случалось это обычно ночью и для всех неожиданно, не всегда под рукой
оказывались караульные, чтобы воспрепятствовать бегству; но даже и днем
прибывший на место караул предпочитал не связываться с больными, так как во
время подобных приступов, когда болезнь достигала наивысшей точки, они
становились особенно заразны и не было ничего опаснее, как дотрагиваться
тогда до них. Обычно они бежали, сами не зная куда, пока не падали замертво,
или пока, истощив свои силы, просто не падали, а умирали еще через какое-то
время - полчаса-час; и, самое грустное, они всегда приходили в себя в эти
последние мгновения и тогда особенно горестно и проникновенно оплакивали
свое положение. Все это было еще до того, как потребовали строгого
соблюдения распоряжения относительно запертых домов, потому что поначалу
сторожа исполняли его не столь неукоснительно, как позднее; так продолжалось
до тех пор, пока их (я хочу сказать, некоторых из сторожей) не стали сурово
наказывать за попустительство и небрежение своими обязанностями, если они
разрешали выходить из домов людям, вверенным их попечению, не важно -
больным или здоровым. Но когда сторожа увидели, что к ним направляют
специальных чиновников, чтобы проверить их и либо заставить исполнять свои
обязанности, либо сурово наказать за нерадивость, они стали строже, и людей
начали караулить всерьез, что вызвало столько злобы и возмущения, что
невозможно и описать. Но, надо признать, сделать это было совершенно
необходимо, раз уж никакие другие меры не были своевременно приняты.
Если бы это не было сделано (я говорю о строгом содержании больных под
замком), Лондон превратился бы в самое чудовищное место на всем земном шаре;
и, судя по тому, что мне известно, в нем умирало бы прямо на улице не меньше
людей, чем в самих домах, потому что, когда болезнь достигала наивысшей
точки, человек впадал в беспамятство и бредовое состояние, а тогда его
невозможно было удержать в постели иначе как силой; многие, кто не был
привязан к кроватям, выбрасывались из окон, когда видели, что через дверь
выйти невозможно.
В те бедственные времена ввиду почти полного отсутствия общения между
людьми невозможно было кому-либо одному разузнать обо всех удивительных
происшествиях, происходивших в разных семьях; особенно же никто не знает и
до сего дня, сколько людей в состоянии бреда утопилось в Темзе и в речушке,
вытекающей из болот около Хэкни, которую обычно называют Уэр-Ривер или
Хэкни-Ривер. В еженедельных сводках таких людей было указано немного; неясно
было и то, утонули ли они случайно или утопились умышленно. Но могу
утверждать, что только лично мне было известно больше утопившихся в тот год,
чем было указано во всех сводках вместе взятых: ведь многие тела так и не
были найдены, хотя доподлинно известно было, что люди погибли. То же можно
сказать и о других способах самоубийства. Один человек с Уайткросс-стрит,
или ее окрестностей, сжег себя живьем прямо в постели; {265} одни
утверждали, что сделал он это нарочно, другие - что благодаря коварству
сиделки; но все сходились на том, что он был болен чумой.
Не раз в то время я думал о том, что лишь по великой милости Провидения
не было в тот год в Сити пожаров, по крайней мере больших пожаров; в
противном случае это было бы страшным несчастьем: ведь людям пришлось бы
тогда либо не тушить их вовсе, либо собираться кучками, а то и целыми
толпами, несмотря на опасность заразы, и не думать, в какие дома они входят,
какие пожитки перетаскивают, с какими людьми общаются. Но получилось так,
что, не считая пожара в Крипплгейтском приходе и еще двух небольших пожаров,
тут же потушенных, в продолжение всего года такого рода неприятностей больше
не было. Рассказывали об одном доме на Суон-Элли, между Госуэлл-стрит (в той
ее части, что ближе к Олд-стрит {266}) и Сент-Джон-стрит; {267} его
обитатели заразились чумой и постепенно вымерли все до единого. Последняя
женщина - ее нашли мертвой прямо на полу, похоже, легла так, чтобы умереть
перед камином; огонь вырвался наружу и прожег дощатый пол и стропила под
ним, все вплоть до тела, однако не тронул покойницы (правда, на ней почти
ничего не было) и сам собой затих, не повредив всего дома, хотя это был
ветхий деревянный домишко. Насколько правдива эта история, не могу сказать,
но город, на следующий год жестоко пострадавший от пожара, в том году не
испытал на себе этого бедствия.
Однако, учитывая бредовое состояние больных во время агонии, о чем я
уже говорил, и то, что в своем безумии они, находясь без присмотра,
совершали самые отчаянные поступки, было очень странно, что никаких
несчастий такого рода не произошло.
Меня не раз спрашивали (но я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос),
как получилось, что столько больных ходило по улицам, в то время как
зараженные дома так тщательно выискивались, запирались и охранялись.
Признаюсь, не знаю, что на это сказать, кроме следующего: в таком
огромном и многолюдном городе невозможно было сразу найти все зараженные
дома или сразу запереть все такие дома, так что многие свободно разгуливали
по улицам, где хотели, прежде чем становилось известно, что они из такого-то
и такого-то зараженного дома.
Правда, как некоторые доктора говорили лорд-мэру, зараза так
свирепствовала в определенные периоды, люди заболевали так часто и умирали
так быстро, что невозможно, да и бессмысленно было ходить и расспрашивать -
кто болен, кто здоров, или запирать их так тщательно, как это следовало бы
делать; ведь иногда почти все дома на улице были заражены, а то и все жители
в этих домах; и, что еще хуже, ко времени, когда становилось известно, что
дом заражен, оказывалось, что большинство находившихся в нем больных уже
давно перемерло, а остальные сбежали, боясь, что их запрут; так что
бессмысленно было числить такой дом зараженным и запирать его: зараза
произвела свои опустошения и ушла из дома еще до того, как стало известно,
что в доме есть больные.
Уже это должно бы убедить любого разумного человека, что раз
предотвратить распространение заразы было выше возможностей магистрата, да и
выше любых человеческих возможностей и ухищрений, то и практика запирания
домов совершенно не помогала этой цели {268}. Действительно, польза для
общества была от нее незначительной по сравнению с тем горестным грузом,
которым она оборачивалась для запертых так вот семей; и пока я, в
соответствии с занимаемой должностью, был причастен к введению этих
строгостей, я не раз имел случай убедиться, что они не отвечают своей цели.
Например, меня как наблюдателя (или визитера) попросили разузнать
поподробнее о положении нескольких зараженных семей, но не успевали мы дойти
до домов, где явно поселилась чума, как кто-нибудь из семейства сбегал.
Магистрат возмущался, упрекал наблюдателей в нерадивости при расспросах и
проверках. Но дома стояли зараженными задолго до того, как это становилось
известно. Не понадобилось и много времени (ведь я выполнял это опасное
поручение лишь половину положенного двухмесячного срока), чтобы понять, что
у нас нет другого способа разузнать о положении семьи, кроме как
расспрашивать у дверей самих обитателей дома и их соседей. Что же касается
того, чтобы войти в дом и обыскать его, то подобной мере городские власти
никогда не решились бы подвергнуть население; да и никакой горожанин не
согласился бы участвовать в таком предприятии: ведь это бы значило
подвергнуть себя неминуемому заражению и смерти, да еще погубить свою семью;
а кроме того, ни один честный уважающий себя гражданин не остался бы в
Лондоне, если б знал, что может подвергнуться такому унижению.
Так что точность наших сообщений зависела от ответов соседей и самих
членов семьи, и было очевидно, что от неверных сведений не избавишься.
Правда, хозяин дома был обязан в течение двух часов давать сведения
наблюдателю, если кто-нибудь из его домочадцев заболевал (точнее,
обнаруживал признаки заразной болезни); но находилось столько предлогов
избежать этого и оправдать допущенную небрежность, что редко кто давал
сведения до того, как дом не покидали все те, кто хотел это сделать, будь то
здоровые или больные; и до тех пор, пока это так продолжалось, было
совершенно очевидно, что запирание домов не является достаточной мерой,
способной предотвратить распространение заразы: ведь, как я уже где-то
упоминал, многие уходили уже зараженными, хотя могли и не подозревать об
этом. И некоторые из них ходили по улицам, пока не падали замертво; не то
чтобы болезнь внезапно поражала их, как удар пули, - зараза уже давно
гнездилась у них в крови и постепенно овладевала всеми жизненными органами,
пока наконец не добиралась до сердца: тогда больной умирал внезапно, падая,
как при обмороке или апоплексическом ударе.
Поначалу, как мне известно, даже некоторые из наших врачей полагали,
что люди, умиравшие вот так прямо на улице, заболевали в тот самый момент,
когда они падали замертво, будто их настигал гром небесный, подобно тем, кто
погибал от удара молнии; однако позднее они изменили свое мнение, так как,
обследовав тела погибших такой смертью, они обнаружили либо проступившие
бубоны, либо другие явные признаки болезни, которая угнездилась в них ранее,
чем первоначально полагали врачи.
Поэтому-то, как я уже говорил, мы, наблюдатели, зачастую не в состоянии
были узнать, заражен ли тот или иной дом, пока не было уже слишком поздно
запирать его или, как иногда бывало, пока не умирали все оставшиеся в нем
обитатели. На Петтикоут-Лейн {269} заразу занесли сразу в два соседствующих
дома, и несколько человек в них заболело, но болезнь так хорошо скрывали,
что наблюдатель (он был моим соседом) так ничего и не знал о ней, пока ему
не прислали записку, что люди в этих двух домах все перемерли и нужно
послать туда телеги, чтобы доставить трупы на кладбище. Дело в том, что
главы обеих семей, объединив усилия, устраивали так, что, завидев
наблюдателя, одновременно выходили из дома и отвечали друг за друга (то есть
лгали), да еще заставляли кого-нибудь из округи подтверждать, что они
здоровы (а те, возможно, и сами пребывали в неведении); и так продолжалось
до тех пор, пока смерть не сделала невозможным долее хранить тайну и не
пришлось ночью заказывать погребальные телеги к обоим домам; так что все, в
конце концов, вышло наружу. Но когда наблюдатели приказали констеблю
запереть дома, там уже не было никого, кроме троих умирающих - двое в одном
доме и один в другом - и двух сиделок, которые признались, что в дом попала
зараза вот уже девять-десять дней назад, что пятерых здесь уже схоронили,
все же остальные члены семей (а семьи были большие) сбежали, - кто уже
захворавший, кто здоровый, а кто неизвестно - здоровый или больной.
В другом доме в том же переулке хозяин, когда кто-то из домочадцев
заразился, не желая, чтобы дом его был заперт, скрывал это, сколько мог, а
потом решил сам себя запереть: он намалевал огромный красный крест на
дверях, а под ним слова: "Да поможет нам Бог!" - и таким образом ввел в
заблуждение наблюдателя, который решил, что это сделал констебль по
распоряжению другого наблюдателя (на каждом участке их было двое); так что
хозяин мог свободно входить и выходить из дома, хоть в нем и были заразные
больные, до тех пор, пока не был обнаружен обман, а тогда он бежал со
здоровыми членами семейства и слугами, так что их так и не заперли.
Все это, как я уже говорил, делало весьма затруднительным, если не
вовсе невозможным, остановить распространение заразы при помощи запирания
домов; и могло тут помочь только одно: если бы люди перестали считать
подобное запирание несчастьем, согласились бы добровольно подвергаться ему и
стали бы своевременно и чистосердечно сообщать в магистрат, что они-де
заразны, и делать это сразу же, как только сами о том узнают; но так как
ожидать этого не приходилось и нельзя было рассчитывать, что наблюдатели
будут заходить в дома и их обыскивать, то вся польза от запирания домов шла
прахом, и лишь немногие из них запирались вовремя, кроме домов тех бедняков,
которым не удавалось скрыть болезнь, да тех немногих хозяев, которые
выражением ужаса и оцепенения сами себя выдавали.
Я освободился от этой опасной службы сразу же, как только смог найти
себе - за небольшую сумму - подходящую замену; и таким образом вместо того,
чтобы служить два месяца, как полагалось, я прослужил не более трех недель;
и вовремя ушел, учитывая, что к этому времени наступил уже август и болезнь
стала особенно свирепствовать в нашем конце города.
Во время выполнения этой моей работы я, не скрываясь, свободно выражал
свое мнение относительно запирания домов в разговорах с соседями; и мы
единодушно сошлись на том, что все эти строгости, сами по себе крайне
неприятные, имели и еще один главный недостаток: они не достигали своей цели
и приводили лишь к тому, что, как я уже говорил, заразные люди все время
ходили по улицам; и мы пришли к общему мнению, что во всех отношениях лучше
было бы отделять здоровых людей от больных и оставлять с ними лишь тех, кто
в таких обстоятельствах брался за ними ухаживать и соглашался быть запертым
вместе с ними.
Наше предложение об отделении здоровых от больных относилось только к
зараженным домам {270}, и запирать больных - не значит покушаться на их
свободу; тот, кто сам не мог передвигаться, если находился в здравом уме, не
стал бы возмущаться этим. Конечно, когда больные начнут бредить и впадут в
беспамятство, они станут кричать и жаловаться на жестокость обращения; но
что касается удаления из этих домов здоровых людей, мы считали это весьма
разумным и справедливым; ради их же собственного блага они должны быть
отделены от заболевших, а для безопасности остальных людей должны какое-то
время прожить в уединении, дабы убедиться, что они здоровы и не заразят
остальных; мы считали, что двадцати-тридцати дней для этого вполне
достаточно.
И конечно, если бы здоровым людям предоставили дома для такого
полукарантина, они имели бы куда меньше оснований считать себя обиженными,
чем теперь, когда их запирали в домах вместе с больными.
Здесь, однако, следует заметить: когда похороны стали столь частыми,
что перестали звонить в колокола, нанимать плакальщиков, надевать траур по
усопшим, как раньше, да что там, даже делать гробы для покойников - короче,
когда свирепость болезни столь возросла, дома вообще перестали запирать.
Похоже, были использованы все средства и все оказалось бесполезным: чума
распространялась с сокрушительной силой, подобно тому, как год спустя
распространялся огонь, сжигая все на своем пути с такой яростью, что люди
отчаялись в своих попытках остановить его, вот и чума дошла до такого
буйства, что люди сидели в оцепенении и смотрели друг на друга, подавленные
отчаянием; целые улицы казались вымершими; и не только из-за запертых домов,
а просто их обитателей не осталось в живых; двери в опустелых домах были
распахнуты, рамы раскачивал ветер, и некому было протянуть руку и прикрыть
их. Короче, люди начали поддаваться страху, что все попытки противиться
болезни тщетны, что нет надежды и всех ждет одно только горе; и именно в
этот момент величайшего всеобщего отчаяния Богу угодно было остановить уже
занесенную руку и умерить ярость болезни, притом настолько явно, что это
выглядело не менее устрашающе, чем ее начало, и показало, что все вершит
именно Его рука, рука Всевышнего, хотя и не без участия земных посредников,
о чем я еще скажу в надлежащем месте.
Но все же я должен рассказать о самом разгаре чумы, об ее
опустошительном буйстве, о людях, оцепеневших, как я уже говорил, в немом
отчаянии. Просто невероятно, до каких крайностей доводила людей чума в самый
разгар болезни, и эта часть повествования, думаю, будет не менее
впечатляющей, чем остальные. Разве не потрясает человека, находящегося в
здравом уме, не производит глубочайшего впечатления на душу его вид мужчины,
почти голого, выскочившего из дома, возможно, прямо с постели, на улицу,
отходящую от Хэрроу-Элли - довольно оживленного пересечения нескольких
улочек, переулков и проездов в районе Мясного ряда в Уайтчепле, - повторяю,
разве может не потрясти вид этого бедняги, выскочившего прямо на улицу,
распевающего и пританцовывающего со всякими шутовскими ужимками, в то время
как за ним вдогонку спешат жена и пятеро-шестеро ребятишек; те умоляют его,
ради всего святого, вернуться домой и просят прохожих помочь им, но тщетно -
никто не решается подойти, а тем более прикоснуться к нему.
С горечью и сокрушением смотрел я на них из окна; мне было прекрасно
видно, что все это время бедняга просто корчился от боли, так как у него
были (это мне сказали потом) два бубона, которые никак не могли нагноиться и
прорваться; доктор, чтобы прорвать их, наложил едкие примочки на эти места,
которые жгли ему кожу, как каленым железом. Не знаю, что сталось с беднягой,
но думаю, что он так и бегал до тех пор, пока не упал замертво.
Неудивительно, что и сам внешний вид города стал устрашающим. Обычное
движение людей по улицам, столь естественное для нашей части города, сильно
уменьшилось. Правда, Биржа не была закрыта, но ее почти не посещали {271}.
Уличных огней не зажигали; на несколько дней, когда был сильный ливень, они
вообще потухли; но дело было не только в ливне: некоторые доктора настаивали
на том, что огонь не просто бесполезен, но и опасен для здоровья {272}. Это
вызвало бурные протесты и было доведено до сведения лорд-мера. Другие, и не
менее известные, доктора, наоборот, говорили, что огонь усмиряет буйство
болезни. Не могу привести доводы противоборствующих сторон, помню только,
что они очень яростно сражались друг с другом. Одни были за огонь, только
жечь нужно дерево, а не уголь, и даже определенные сорта дерева, лучше всего
ель и кедр из-за сильных испарений скипидара; другие стояли за уголь, а не
дерево, из-за серы и битума; а третьи - ни за то, ни за другое. В конце
концов мэр отдал распоряжение отказаться от огня, более всего из-за того,
что чума так разгулялась, что стало очевидно: никакие средства ее не берут,
а скорее наоборот - заставляют свирепствовать еще пуще. Это бездействие
магистрата проистекало, скорее, от невозможности применить какие-либо
действенные средства, чем от нежелания потрудиться или взять на себя груз
ответственности, потому что, надо отдать властям справедливость, они не
жалели ни собственных трудов, ни самих себя. Но ничто не помогало: зараза
бушевала, и люди были угнетены и напуганы до последней степени - до того,
что, как я уже говорил, они разрешили себе предаться отчаянию.
Но, позвольте тут же заметить, когда я говорю, что люди стали
поддаваться отчаянию, я вовсе не имею в виду так называемое безверие или
сомнения в вечной жизни, а лишь сомнение в том, что им удастся избежать
заразы и пережить чуму, которая настолько разбушевалась и так обрушилась на
людей, что почти никто из заболевших в это время (то есть в августе и в
сентябре), когда она была в разгаре, не уцелел; {273} в отличие от
заболевших в июне, июле и начале августа (когда, как я уже говорил, многие
продолжали жить еще немало дней, а уж потом умирали, долгое время спустя
после того, как яд попадал им в кровь), теперь, наоборот, люди, заболевшие в
две последние недели августа и три первые недели сентября, обычно умирали в
два, самое большее в три дня, а многие и сразу в тот же день, как заболели;
были ли это самые тяжелые "собачьи дни", и, как утверждали астрологи, все
объяснялось дурным воздействием Сириуса {274}, или же все ростки заразы,
которые до того носили в себе люди, вдруг проросли одновременно, - не могу
сказать, однако именно в это время сообщили, что однажды более трех тысяч
человек унесло за одну ночь; и те, кто, по их утверждениям, внимательно
изучал этот факт, говорили, что все они умерли в течение двух часов, а
именно - между часом ночи и тремя часами утра. Что касается внезапности этих
смертей, значительно возросшей по сравнению с тем, что было раньше, то здесь
привести можно несметное количество примеров, в том числе и среди моих
соседей. Одно семейство, состоявшее из десяти человек и проживавшее по
соседству со мной, неподалеку от Темпл-бар, еще в понедельник казалось
совершенно здоровым; однако к вечеру заболели служанка и один из
подмастерьев и умерли к утру; к этому времени заболел другой подмастерье и
двое детей, один из которых умер к вечеру вторника; а остальные - в среду.
Короче говоря, к полудню в субботу умерли все - хозяин, хозяйка, четверо
детей и четверо слуг; и дом совершенно опустел, если не считать старушки,
которая приходила присматривать за пожитками по распоряжению брата хозяина
дома, жившего неподалеку, однако не заболевшего.
Много домов опустело, так как всех их обитателей свезли на кладбище;
особенно в переулке рядом с вывеской Моисея и Аарона {275}, с той стороны,
где Застава {276}, только немного подальше, - там было несколько
прилепившихся друг к другу домишек, в которых, говорили, ни единого человека
в живых не осталось. И те, кто умерли последними, слишком долго оставались
непохороненными; причиной тому было вовсе не то, как писали некоторые, будто
в городе не осталось живых хоронить своих мертвецов, а то, что смертность в
переулке была такова, что некому оказалось сообщить погребальщикам и
могильщикам, что нужно вывезти и захоронить трупы. Говорили, - не знаю,
правда, насколько это верно, - будто некоторые тела так прогнили и
разложились, что стоило огромного труда их убрать; а так как телеги не могли
подъехать ближе, чем Элли-Гейт на Хай-стрит, это еще усложняло дело; но я
даже не знаю точно, сколько там оставалось трупов. И потом, я уверен, что
такое случалось не часто.
Когда люди, как я уже говорил, впали в полное отчаяние и безнадежность,
это возымело одно странное действие: недели на три-четыре люди отбросили
страх и осторожность, они более не сторонились встречных, не сидели
взаперти, а ходили куда хотели и вновь начали общаться друг с другом. "Я не
расспрашиваю вас, как вы себя чувствуете, - частенько говорили они при
встрече, - как не рассказываю и о собственном здоровье; совершенно очевидно,
что оба мы погибнем; так что теперь уже не имеет значения, кто болен сейчас,
а кто здоров". И вот они, отчаявшись, начали ходить в любые места, в любую
компанию.
Не менее удивительно, чем эти светские сборища, было и то, как
толпились люди у церкви. Они больше не задавались вопросами, с кем рядом
сидят, что за зловонные запахи обоняют или в каком состоянии, судя по виду,
находятся окружающие их люди; они уже смотрели на себя как на покойников и
ходили в церковь без малейших предосторожностей; и стояли толпой, будто
жизнь их не имела ни малейшего значения по сравнению с тем, ради чего они
собрались здесь. И воистину, рвение, с каким они посещали храм, серьезность
и внимание, с которыми слушали священника, показывали, какое огромное
значение придавали бы люди служению Богу, если б думали, каждый раз когда
посещают Церковь, что этот день их последний.
Было и еще одно странное воздействие отчаяния: люди отбросили
предрассудки, им стало все равно, какой священник стоит на кафедре, когда
они приходят в церковь. Не подлежало сомнению, что множество священников
погибло во время этого всеобщего бедствия; другим же не хватило мужества
встретить его достойно, и они бежали из города, если имели хоть какое-то
пристанище в провинции. Так что некоторые приходские церкви стояли
бесхозными, и народ вовсе не возражал, чтобы священники-диссиденты, которые
несколько лет назад были лишены приходов, согласно парламентскому акту,
известному как Акт о единообразии {277}, проповедовали бы теперь в церквах;
да и сами священнослужители без возражения принимали их помощь; таким
образом, многие из тех, кому, что называется, заткнули рты, теперь вновь
обретали голос и могли читать проповеди публично.
Здесь можно заметить, и надеюсь, это будет не лишнее, что близость
смерти быстро примиряет добропорядочных людей друг с другом и что только из-
за легкости нашей жизни и из-за того, что мы стараемся не думать о
неизбежном конце, связи наши разрываются, злоба накипает, крепнут
предрассудки, пренебрежение милосердием и христианским единением, как это
имеет место в наши дни. Еще один чумной год всех нас примирил бы; близкое
соседство смерти или болезни, угрожающей смертью, выгнало бы всю присущую
нам желчность, покончило бы со всякой враждебностью и заставило бы взглянуть
на многие вещи иными глазами. Подобно тому, как люди, принадлежавшие Высокой
церкви, соглашались слушать проповеди диссидентских священников, так и
диссиденты, которые раньше с необычайным упорством отказывались от единения
с Высокой церковью, теперь не гнушались заходить в приходские храмы и там
молиться; но как только страх перед заразой уменьшился, все вновь, к
сожалению, вернулось в старое русло.
Я упоминаю обо всем этом просто как об историческом факте. У меня нет
намерения приводить какие-либо доводы, чтобы побудить одну из сторон или обе
сразу к более милосердному отношению друг к другу. Не думаю, чтобы подобный
разговор оказался уместным, тем более действенным; разрыв скорее
увеличивается, чем уменьшается, и грозит стать еще сильнее, да и кто я
такой, чтобы считать себя способным повлиять на ту или иную сторону? Могу
повторить лишь одно: смерть, бесспорно, всех нас примирит; по ту сторону
могилы все мы вновь станем братьями. На Небе, куда, надеюсь, попадут люди
любых партий и любых убеждений, не будет ни предрассудков, ни сомнений; там
все мы будем одних взглядов, единого мнения. Почему же не можем мы идти рука
об руку к тому пристанищу, где все мы соединимся без колебаний в вечной
гармонии и любви? Повторяю, почему не можем мы этого сделать здесь, на
земле, я не знаю и скажу в связи с этим только одно: это весьма прискорбно.
Я мог бы еще долго описывать бедствия того ужасного времени - и
отдельные сценки, которые мы видели ежедневно, и жуткие выходки, к коим
болезнь вынуждала потерявших разум людей; и те ужасные случаи, которые
приключались теперь на улицах; и панический страх, который не покидал людей
даже дома: ведь теперь даже члены семьи стали бояться друг друга. Но после
того, как я рассказал уже об одном мужчине, привязанном к кровати, который,
не видя иного способа освободиться, поджег постель свечой, до которой, к
несчастью, смог дотянуться, и сжег себя заживо; или о другом, который под
пыткой нестерпимой боли отплясывал и распевал нагишом на улице, повторяю,
после того, как я обо всем этом уже рассказал, - что можно еще добавить?
Какие слова найти, чтобы передать читателю еще более живо беды того времени
или внушить ему более полное представление о тех невообразимых страданиях?
Признаюсь, время было ужасное, подчас моя решимость почти покидала
меня, и не было у меня и помину той храбрости, как поначалу. Если
отчаянность ситуации довела других до того, что они стали расхаживать по
улицам, то я, наоборот, заперся дома, и кроме путешествия в Блэкуэлл и
Гринвич, о котором уже рассказывал и которое было предпринято просто как
прогулка, - потом уже никуда почти не выходил, как, впрочем, и в течение
двух недель перед этой прогулкой. Я говорил уже, что не раз сокрушался о
том, что решился остаться в городе и не уехал с братом и его семьей, но
теперь уже поздно было куда-либо уезжать; так что я заперся и оставался в
доме довольно долго; но в конце концов терпение мое истощилось, и я решился
показаться на улице; потом меня призвали исполнять это омерзительное и
опасное поручение, о чем я уже говорил, так что мне пришлось снова выходить
из дома; но когда время службы прошло, а чума была еще в полном разгаре, я
вновь заперся и просидел так еще десять-двенадцать дней, в продолжение
которых наблюдал немало жутких сцен на собственной улице, вроде той, на
Хэрроу-Элли, когда взбесившийся бедняга плясал и распевал в состоянии
агонии, да и много других, ей подобных. Редкий день не случалось ничего
ужасного в том конце, что ближе к Хэрроу-Элли; ведь там жила в основном
беднота, все больше мясники или люди, так или иначе связанные с мясной
торговлей.
Иногда целые толпы народа, как правило женщины, выбегали из этого
переулка с жутким шумом - ужасающей смесью визга, плача и зова, так что
понять, в чем дело, никто из нас не мог. В самую глухую часть ночи
погребальные телеги всегда стояли у переулка: ведь если бы они туда заехали,
то не смогли бы развернуться, да и проехать насквозь было невозможно. Так
они и стояли у переулка в ожидании мертвецов, а если и уезжали нагруженными,
то вскорости вновь возвращались: ведь церковное кладбище было неподалеку.
Невозможно описать крики и шум, какие поднимала эта беднота, когда выносили
трупы детей и друзей их к телегам; а покойников было столько, что можно было
подумать, будто в переулке уже никого не осталось или что его обитателей
хватило бы, чтобы заселить небольшой городок. Несколько раз оттуда кричали
"Убивают!", несколько раз - "Пожар!", но, похоже, все это были бредовые
жалобы несчастных, доведенных до отчаяния людей.
Полагаю, и в других местах было то же: ведь шесть-семь недель чума
свирепствовала так жутко, что и описать невозможно, зараза распространялась
с такой быстротой, что в какой-то мере поломала образцовый порядок,
поддерживаемый магистратом, о котором я так много говорил (я имею в виду,
что на улицах не было трупов и похороны производились лишь в ночное время),
потому что необходимо было в этом крайне бедственном положении как можно
быстрее хоронить людей {278}.
Не могу не упомянуть и еще об одном. Десница Божьего правосудия
проявилась еще и в том, что предсказатели, гадалки, астрологи и тому
подобные чародеи - фокусники, составители гороскопов, сновидцы и прочие -
совершенно исчезли - нельзя было сыскать ни единого. Я глубоко убежден, что
многие из них, оставшись в городе в надежде заработать большие деньги (и
действительно их доходы благодаря глупости и безрассудству лондонцев были
какое-то время непомерно велики), - погибли в разгар бедствия. Теперь же они
смолкли: многие из них спали вечным сном, оказавшись бессильны предсказать
свою участь и вычислить срок собственной жизни. Некоторые горожане,
настроенные наиболее враждебно по отношению к ним, утверждали, что все они
перемерли. Я сильно в этом сомневаюсь, но верно одно - ни о ком из них я не
слыхал после окончания бедствия.
Однако вернемся к моим наблюдениям в самый трудный период этого
испытания. Я подбираюсь к сентябрю, наиболее жуткому сентябрю, какой
когда-либо видели лондонцы; ведь все известные мне отчеты о других чумных
поветриях в Лондоне ничего подобного не содержат: теперь с 22 августа по 26
сентября, то есть за пять недель, число умерших в еженедельных сводках почти
достигло сорока тысяч {279}. Конкретнее это выглядело так:
С 22 августа по 29 августа 7496
С 29 августа по 5 сентября 8252
С 5 сентября по 12 сентября 7690
С 12 сентября по 19 сентября 8297
С 19 сентября по 26 сентября 6460
38195
Это было само по себе внушительное число, но если учесть, а у меня есть
для этого все основания, что цифры в отчете были приуменьшены (и насколько
приуменьшены!), то вы вслед за мной без труда поверите, что умирало более
десяти тысяч в неделю в течение всего вышеуказанного периода и чуть меньшее
количество в течение нескольких предшествующих и последующих недель.
Смятение людей в это время, особенно живших в Сити, невозможно передать.
Ужас был настолько силен, что даже у погребальщиков нервы стали сдавать; да
что там, несколько из них умерло, хотя они до этого уже переболели чумой, а
некоторые падали замертво, когда они вместе с телегами приближались к краю
ямы; смятение было особенно велико в Сити, так как его жители долго льстили
себя надеждами на спасение и считали, что самый разгар болезни уже позади.
Нам рассказали, что одну телегу, шедшую из Шордича, не то бросили
перевозчики, не то оставили ее на одного человека, а тот помер прямо на
улице; лошади же опрокинули телегу и разметали трупы по земле самым жутким
образом. Другая телега была найдена в огромной яме на Финсбери-Филдс; {280}
перевозчик не то помер, не то, бросив ее, сбежал, а лошади подошли слишком
близко к краю, телега упала и потянула за собой лошадей. Полагали, что и
перевозчик был там и его накрыло телегой, так как кнут торчал среди мертвых
тел; но ручаться, по-моему, за это нельзя.
Говорили, что в нашем приходе Олдгейт у кладбищенских ворот находили
телеги, полные трупов, а при них ни перевозчика, ни звонаря и никого
другого; кроме того, и в этих, и во многих других случаях было неизвестно,
чьи это тела: ведь иногда их спускали на веревках прямо с балконов или из
окон, иногда погребальщики сами тащили их к телегам, иногда другие люди; и
никто не заботился о том, чтобы составлять отчеты и подсчитывать количество
умерших.
Теперь бдительность магистрата подверглась самым большим испытаниям -
и, надо признать, выдержала их с честью. Каких бы трудов и издержек это ни
стоило, две вещи неукоснительно выполнялись в городе и его окрестностях:
1. Провизия всегда была в большом количестве, а цены на нее возросли
столь незначительно, что об этом и говорить не стоит.
2. Никаких неубранных и непогребенных трупов не валялось на улицах; и
если бы кто-нибудь вздумал пройти из одного конца города в другой в дневное
время, он не обнаружил бы никаких признаков похорон, за исключением, как я
уже говорил, короткого промежутка в течение трех первых недель сентября.
Этот последний пункт может показаться недостоверным, если сравнить его
с другими описаниями чумы, с тех пор публиковавшимися, где говорится, что
мертвые лежали непохороненными; однако я считаю такие утверждения ложными;
во всяком случае, если подобное и случалось, так лишь в домах, где
оставшиеся в живых сбежали (найдя для этого какой-нибудь способ, о чем я уже
говорил), бросив своих мертвецов, так что некому было сообщить о них
городским властям. И это ни в коем случае не меняет сути дела; я в этом
убежден, так как был втянут сам на какое-то время в работу по управлению той
частью прихода, где я жил и где относительно числа жителей произошли не
меньшие опустошения, чем в других районах; повторяю, я убежден: мертвые не
оставались незахороненными, то есть не оставались незахороненными после
того, как городские власти узнавали об их наличии; не было незахороненных
из-за отсутствия погребальщиков или могильщиков, чтобы положить тела в яму и
закопать; и этого достаточно, чтобы кончить спор; а что могло происходить в
домах и всяких там логовах, вроде тех, что на Мозес-энд-Аарон-Элли, к делу
не идет: ведь совершенно очевидно, что всех хоронили, как только о них
становилось известно. Что же касается первого пункта (а именно: провизии, ее
скудости и дороговизны), то, хоть я и говорил уж об этом, а ниже собираюсь
сказать еще подробнее, здесь замечу следующее:
1. Прежде всего, хлеб почти не подорожал: ведь в начале года (точнее, в
первые недели марта) за пенни можно было купить пшеничный хлеб в десять с
половиной унций {281}, а в самый разгар чумы за те же деньги можно было
получить девять с половиной унций хлеба, и хлеб уже не дорожал более за весь
этот период. Уже в начале ноября его снова продавали десять с половиной
унций за пенни; ничего подобного, я полагаю, не бывало ранее ни в одном
городе во время подобных испытаний.
2. Не было недостатка (что меня очень удивляло) в булочных и пекарнях,
продолжавших работать, чтобы снабжать население хлебом; однако это вызвало
нарекания некоторых семейств, утверждавших, что служанки, посланные туда с
тестом, чтобы выпечь хлеб (как было тогда принято), возвращались
заразившимися (то есть подцепившими чуму).
Во время всего этого тягостного испытания в городе, как я уже говорил,
действовало только два чумных барака: {282} один в полях за Олд-стрит {283},
другой - в Вестминстере; и никогда никого не помещали туда насильно. В
данном случае не было и необходимости в принуждении, так как в городе
обитали тысячи бедняков, пребывавших в самом отчаянном состоянии - без
помощи и средств к существованию, живших лишь подаянием; и все они были бы
рады туда отправиться: ведь там за ними был бы уход; и вот здесь-то и
заключался, по-моему, главный недостаток всех общественных мероприятий
города - никого не допускали в чумной барак иначе как за деньги либо
соответствующее обеспечение, или при поступлении, или после выздоровления,
потому что очень многие выходили оттуда здоровыми; в бараки направляли
прекрасных врачей, и больные чувствовали себя там очень неплохо, о чем я еще
расскажу. Посылали туда, как я уже говорил, в основном слуг, которые ходили
по поручениям, чтобы обеспечить хозяев необходимым, и которых, если они
возвращались больными, отсылали в барак, чтобы не перезаразить все
семейство; и за ними так хорошо смотрели там, что за все время бедствия было
только 156 смертных случаев в лондонском чумном бараке и 159 - в
вестминстерском.
Когда я утверждал, что необходимо было открыть больше чумных бараков, я
не полагал, что в них нужно нагонять людей силой. Если б дома не запирали, а
больных насильственно выдворяли из них и загоняли в бараки, как предлагали
некоторые, это было бы еще хуже. Сама перевозка больного из дома в барак
привела бы к распространению болезни, да и дом, где находился больной,
необязательно освобождался бы при этом от заразы, а другие члены семьи,
находясь на свободе, наверняка заражали бы остальных.
Кроме того, повсеместно принятая в частных домах манера скрывать
наличие заболевших, приводила к тому, что наблюдатели, или визитеры,
узнавали о них не раньше, чем заражалась вся семья. С другой стороны,
огромное число людей, болеющих одновременно, превысило бы любые возможности
общественных чумных бараков, да и чиновников не хватило бы, чтобы
обнаруживать заболевших и переводить их туда.
Тогда это прекрасно понимали и часто говорили об этом. У магистрата
хватало хлопот: нелегко было заставлять людей соглашаться на запирание
домов, всеми возможными средствами они обманывали сторожей и выбирались на
волю, как я уже говорил. И эти трудности с очевидностью показали магистрату,
насколько бессмысленной была бы такая работа: ведь никогда не удалось бы им
вытащить людей из их домов, из их постелей. Чтобы попытаться сделать это,
нужны были не подручные лорд-мэра, а целая армия; да кроме того, люди пришли
бы в ярость, в отчаяние и растерзали б тех, кто ввязался в это дело и
попытался бы насильно увести их самих, их детей или родственников, чего бы
это ни стоило; подобная попытка сделала бы людей, и так доведенных до
невообразимо ужасного состояния, совершенно невменяемыми; вот почему
магистрат считал, что при данных обстоятельствах лучше проявить в обращении
с людьми снисходительность и сострадание, а не жестокость и запугивание, - а
именно жестокостью было бы вытаскивание больных из домов и приказание
отправиться в какое-то иное место.
Это заставляет меня снова вернуться ко времени, когда чума только
начиналась, точнее, когда стало очевидным, что она распространится на весь
город, и когда, как я уже говорил, наиболее состоятельная часть жителей
первой забеспокоилась и поторопилась выбраться из Лондона. Действительно,
как я уже говорил, толпа на дороге была так велика, столько было лошадей,
карет, телег и фургонов, увозящих людей прочь, что, казалось, весь город
вознамерился уехать; и если бы какие-нибудь устрашающие указы были
опубликованы в это время, особенно такие, которые стесняли бы свободу людей,
это повергло бы и Сити и пригороды в величайшее смятение.
Вместо этого магистрат разумно подбодрил народ, издал весьма дельные
постановления, регулирующие жизнь в городе, поддерживающие образцовый
порядок и приемлемые для всех слоев населения.
Прежде всего лорд-мэр, шерифы, Совет олдерменов, а также некоторые
члены Городского совета и их представители приняли решение и опубликовали
соответствующее заявление, что сами они не покинут город, а будут всегда и
повсеместно на страже порядка, отправлять правосудие, распределять
пожертвования для бедных, короче, исполнять свой долг и осуществлять
доверенные им гражданами обязанности из последних сил.
Для претворения в жизнь этого обещания лорд-мэр, шерифы и прочие
ежедневно собирались на заседания, чтобы принимать решения, которые, по их
мнению, способствовали общественному спокойствию; и хотя они обращались с
людьми со всей возможной мягкостью и снисходительностью, однако
беззастенчивых мошенников, воров, взломщиков и мародеров должным образом
наказывали; всякого рода постановления, направленные против них,
публиковались лорд-мэром и Советом олдерменов неоднократно.
Кроме того, всем констеблям и церковным старостам было вменено в
обязанность оставаться в городе под страхом сурового наказания либо передать
свои полномочия способному и во всех отношениях подходящему заместителю,
кандидатуру которого одобрит олдермен и члены Городского совета
соответствующей части города и за которого уезжающий даст поручительство и
залог на случай его смерти, так как нужно будет тогда искать другого
констебля на его место.
Все это значительно успокоило умы, особенно после первого момента
паники, когда говорили, что из города так все бегут, что Сити - есть
опасность - совсем опустеет, если не считать самой что ни на есть бедноты, а
вся округа будет разграблена и опустошена голодными толпами. И магистрат
действительно не отступился от своего обещания и исполнял возложенные на
него обязанности с полным бесстрашием; лорд-мэр и шерифы все время были на
улицах, в самых опасных местах; и хотя они старались, чтобы люди не
толпились вокруг, в самых неотложных случаях они всегда принимали людей,
выслушивали все их жалобы и расспрашивали об их бедах.
Также и городские чиновники, которых называли офицерами лорд-мэра,
неукоснительно исполняли свои обязанности, пока были на службе; если же
кто-нибудь из них заражался и заболевал, а такое случалось, немедленно
находили другого, чтобы поставить на место заболевшего до выяснения -
выживет тот или умрет.
Подобным же образом шерифы и олдермены всегда находились на своих
постах в тех округах, куда они были направлены; а люди шерифа или сержанты,
в свою очередь, шли за указаниями к своему олдермену; так что дисциплина и
правосудие везде поддерживались неукоснительно.
Следующей заботой было смотреть, чтобы везде соблюдалась свобода
торговли; следя за этим, лорд-мэр и шериф, либо кто-то один из них, каждый
базарный день выезжали верхом поглядеть, как исполняются их указания:
получают ли селяне самый радушный прием {284}, свободно ли пропускают их на
рынок и с рынка, не видят ли они на улицах города каких-нибудь безобразий и
ужасов, которые могли бы напугать их и заставить прекратить посадки в город.
Специальные распоряжения получили также и пекари, а глава Цеха пекарей и его
помощники получили указание, чтобы эти распоряжения неукоснительно
выполнялись и чтобы установленные цена и вес хлеба (которые еженедельно
сообщались лорд-мэром) соблюдались; кроме того, все пекари были обязаны
круглосуточно держать печи горячими под страхом лишиться права быть членом
корпорации пекарей города Лондона.
Благодаря этим мерам хлеба всегда было вдоволь, и по тем же ценам, как
и обычно, я об этом уже говорил; и в провизии на рынках никогда не ощущалось
недостатка, до такой степени, что я, дивясь этому, не раз упрекал себя за
робость и осторожность при каждом выходе на улицу, тогда как селяне спокойно
и храбро шли на рынок, будто в городе не было заразы или будто им не
угрожала опасность подхватить ее.
Что правда, то правда, одним из самых похвальных действий магистрата
было то, что улицы всегда содержались в чистоте и ничего пугающего нельзя
было на них увидеть - трупа или еще чего, оскорбляющего взгляд, - если не
считать тех случаев, когда кто-либо падал замертво прямо на улице, о чем я
уже говорил; но и такие тела обычно прикрывались или же относились в
ближайший церковный двор в ожидании ночи. Все необходимые работы, которые
порождали страх, были омерзительны или опасны, делались по ночам; перевозка
и погребение трупов, сжигание заразных пожитков - все это делалось ночью; и
все те трупы, которые сбрасывались в три огромные ямы на кладбищах, о
которых я уже говорил, подвозились туда ночью, и все было забросано землей
до наступления дня. Так что в дневное время не было ни видно, ни слышно ни
малейших признаков бедствия, если не считать пустынности улиц и подчас
бешеных криков и жалоб людей, высовывающихся из окон, а также множества
запертых домов и лавок.
Нельзя сказать, что в Сити было так же тихо и пустынно, как на
окраинах, если не считать того периода, когда, как я уже говорил, чума
поползла на восток и распространилась по всему Сити. Это действительно была
милость Божия, что чума, начавшись сначала в одном конце города (о чем
говорилось уже предостаточно), лишь постепенно распространялась на другие
части и не пришла сюда (я хочу сказать, на восток), пока не истощила своей
ярости в западной части города: таким образом, когда она разгоралась в одном
направлении, то затихала в другом. Например, она началась в Сент-Джайлсе и
вестминстерской части города, а именно: в Сент-Джайлсе-ин-де-Филдс.
Сент-Эндрюсе. Холборне, Сент-Клемент-Дейнз, Сент-Мартин-ин-де-Филдс и в
Вестминстере; там она свирепствовала примерно до середины июля. Во второй
половине июля в этих приходах она стала стихать, но значительно возросла в
Крипплгейте, приходе Святого Гроба Господня, Сент-Джеймсе, Кларкенуэлле,
Сент-Брандс и Олдерсгейт. Пока это продолжалось во всех перечисленных
приходах. Сити и все приходы Саутуэркской стороны реки, а также Степни,
Уайтчепл, Олдгейт, Уоппинг и Рэдклифф были почти не затронуты, настолько,
что люди там по-прежнему беспечно ходили по делам, вели торговлю, держали
открытыми лавки и свободно общались друг с другом и в Сити, и в
северо-восточных приходах, и в Саутуэрке, почти как если бы чумы и вовсе не
существовало.
Даже когда северные и северо-западные пригороды, такие как Крипплгейт,
Кларкенуэлл, Бишопсгейт и Шордич, были уже сильно заражены, все же в
остальных приходах было сравнительно спокойно. Например, с 25 июля по 1
августа сводки умерших сообщали:
Сент-Джайлс, Крипплгейт 554
Святого Гроба Господня 250
Кларкенуэлл 103
Бишопсгейт 116
Шордич 110
приход Степни 127
Олдгейт 92
Уайтчепл 104
Все 97 приходов внутри городских стен 228
Все приходы в Саутуэрке 205
Итого 1889
Одним словом, в ту неделю в двух приходах - Крипплгейт и Святого Гроба
Господня - умерло на 48 человек больше, чем во всем Сити, восточных
пригородах и саутуэркских приходах вместе взятых.
Это привело к тому, что репутация Сити как места здорового, особенно
среди близлежащих графств и торговых городов, откуда к нам главным образом и
шла провизия, держалась дольше, чем это соответствовало действительности.
Ведь когда люди из провинции проезжали черев Шордич, или Бишопсгейт, или
Олд-стрит и Смитфилд, они видели, что улицы на окраинах пустынны, дома и
лавки заперты, а те немногие прохожие, кто встречался им на пути, старались
идти посередине улицы. Но как только они попадали в Сити, внешне дела
обстояли здесь лучше: рынки и лавки были открыты, и горожане, как обычно,
ходили по улицам, хотя и не столь многолюдным; так продолжалось до конца
августа - начала сентября.
Но потом ситуация полностью изменилась; болезнь стала слабеть в
западных и северо-западных приходах и всей тяжестью, самым ужасным образом
обрушилась на Сити, восточные приходы и Саутуэркскую сторону.
Теперь уж Сити представляло собой мрачное зрелище: лавки закрыты, улицы
опустели. Правда, на Хай-стрит необходимость все-таки выгоняла людей {285},
и среди дня там было довольно много народу, но по утрам и вечерам - почти
что ни души, даже там, и то же на Корнхилл {286} и Чипсайде {287}.
Эти мои наблюдения убедительно подтверждались в те недели сводками
смертности, выдержку из которых я приведу ниже, так как она относится к
приходам, о которых сейчас шла речь, и доказывает очевидность моих расчетов.
Еженедельная сводка, показывающая падение смертности на западе и
северо-западе, выглядит так:
С 12 по 19 сентября
Сент-Джайлс, Крипплгейт 456
Сент-Джайлс-ин-де-Филдс 140
Кларкенуэлл 77
Святого Гроба Господня 214
Сент-Лионард, Шордич 183
Приход Степни 716
Олдгейт 623
Уайтчепл 532
Все 27 приходов внутри городских стен 1493
8 приходов Саутуэркской стороны 1636
Итого 6060
Здесь мы видим поистине странную, и весьма прискорбную, перемену;
продлись такое положение более двух месяцев, немногие остались бы в живых.
Но, повторяю, таково было милосердие Божие, что в западных и северных
районах, вначале страшно пострадавших, как видите, положение улучшилось; и
если в центре города улицы совсем опустели, то в тех районах люди вновь
начали выходить; за следующие две-три недели произошли еще большие перемены,
я имею в виду перемены, воодушевившие эту часть города. Например:
С 19 по 26 сентября
Сент-Джайлс, Крипплгейт 277
Сент-Джайлс-ин-де-Филдс 119
Кларкенуэлл 76
Святого Гроба Господня 193
Сент-Лионард, Шордич 146
Приход Степни 616
Олдгейт 496
Уайтчепл 346
Все 97 приходов внутри городских стен 1268
8 приходов Саутуэрка 1390
Итого 4927
С 26 сентября по 3 октября
Сент-Джайлс, Крипплгейт 196
Сент-Джайлс-ин-де-Филдс 95
Кларкенуэлл 48
Святого Гроба Господня 137
Сент-Лионард, Шордич 128
Приход Степни 674
Олдгейт 372
Уайтчепл 328
Всего 97 приходов внутри городских стен 1149
8 приходов на Саутуаркской стороне 1201
Итого 4382
Теперь несчастья Сити, а также восточных и южных частей города достигли
своего предела, так как болезнь переместилась, как видите, именно сюда, то
есть в Сити, восемь приходов на той стороне реки, а также приходы Олдгейт,
Уайтчепл и Степни; и к этому времени число умерших возросло до такой
чудовищной цифры, как 8-9 тысяч, а я полагаю, все 10-12 тысяч в неделю,
потому что твердо убежден - никогда не давалось точных отчетов 288 по
причинам, которые я уже излагал выше.
Да что там, один из самых знаменитых врачей (который позднее
опубликовал отчет на латыни о тех временах и о своих наблюдениях)
утверждает, что в одну из недель умерло двенадцать тысяч {289}, особо же
отмечает одну ночь, когда умерло четыре тысячи сразу, хотя лично я не
припомню, чтобы была подобная роковая ночь с таким огромным числом смертей.
Однако все это подтверждает то, о чем я уже говорил и к чему еще вернусь
позднее, - недостоверность сводок смертности.
А теперь разрешите мне, хоть это может показаться и повторением,
остановиться подробнее на плачевном состоянии самого Сити и той части
города, где сам я в то время жил. В Сити и прилегающих к нему районах,
несмотря на огромное число людей, бежавших из города, оставалось еще очень
много народу, возможно, так много именно потому, что люди долгое время
верили, что чума не коснется Сити, а также Саутуэрка, Уоппинга и Рэтклиффа;
да что там, уверенность людей была так велика, что многие в поисках
безопасности переехали из пригородов в западных и северных районах города на
юго-восточную сторону и, как я полагаю, занесли вместе с собой чуму,
которая, не будь этого, возможно, позже добралась бы сюда.
И здесь я должен сделать несколько замечаний на пользу потомкам о том,
как люди заражали друг друга, а именно, что не только больные
непосредственно заражали чумой остальных, но и здоровые. Попробую объяснить:
под больными я разумею тех, о которых известно, что они больны, кто лежит в
постели и получает лечение, у кого проступили бубоны или нарывы и тому
подобное; такие были либо прикованы к постели, либо находились в таком
состоянии, что скрыть его было невозможно.
Под здоровыми я разумею тех, кто, хотя и подцепили заразу, которая уже
проникла к ним в кровь, но внешне последствия этого еще не проявились, более
того, они и сами не подозревают о том, что больны; и так продолжается иногда
в течение нескольких дней. Однако дыхание этих людей, где бы они ни были и
кто бы к ним ни приблизился, источает смерть; да что там, даже их одежда
передает заразу, а руки заражают те вещи, к которым они прикасаются,
особенно если руки эти теплые и потные, а обычно эти люди сильно потеют.
Невозможно догадаться, что эти люди заразные, да они часто и сами об
этом не знают. Они нередко падают замертво или теряют сознание прямо на
улице, потому что обычно такие больные остаются на ногах до последнего, пока
вдруг не выступит у них пот, не начнет кружиться голова, и тогда они садятся
прямо у дверей и умирают. Правда, почувствовав себя плохо, они изо всех сил
стараются добраться до дверей собственного дома, и иногда им это удается - у
них хватает сил, чтобы добраться до дома и тут же умереть; другие ходят до
тех пор, пока у них не проступают "знаки", но они даже не замечают этого и
умирают через час-два после того, как пришли домой, хотя до этого
чувствовали себя вполне нормально. Это самые опасные больные, и здоровым
следует более всего их опасаться, но в то же время их невозможно распознать.
Вот почему в дни подобного испытания невозможно предохранить себя от
чумы даже при величайшей бдительности: ведь нельзя отделить заразных людей
от здоровых, ибо заразные и сами не осознают своего положения.
Я был знаком с человеком, который свободно заговаривал с людьми во все
время чумы 1665 года, но держал при себе противоядие или укрепляющее
средство, чтобы принять его, как только он почувствует себя в опасности. У
него был такой способ выявлять эту опасность, о каком я не слыхивал ни до
того, ни после. Насколько он был действенен, тоже не могу сказать. У него
была рана на ноге, и когда бы он ни оказывался в компании с заразными
людьми, если зараза начинала воздействовать на него, он, по его утверждению,
тотчас узнавал об этом по следующему признаку: рана на ноге начинала саднить
и бледнеть; {290} и вот, как только он чувствовал, что рана начинает
саднить, он либо уходил из той компании, либо принимал свое зелье, которое
всегда имел при себе. Так вот, рана его часто саднила в компаниях людей,
считавших себя здоровыми и выглядевших здоровыми; тогда он неизменно вставал
и говорил во всеуслышание:
- Друзья, кто-то в этой компании болен чумой.
И компания тотчас же расходилась. Действительно, это был добрый
советчик, напоминавший людям, что чумы не избежать тем, кто без разбору
заговаривает со всеми в зараженном городе, где люди носят в себе болезнь,
сами того не зная, и по неведению передают заразу другим; и в таких случаях
запиранием здоровых и удалением больных делу не поможешь, раз нельзя
запереть и всех тех, с кем общался больной, причем даже до того, как узнал,
что он болен; и никто не представляет себе, как далеко это заведет и где
остановится; так что никому не известно, когда, где, как и от кого может он
подцепить заразу.
По этой-то причине, я думаю, многие утверждали, что сам воздух испорчен
и заражен и что нет нужды опасаться тех, с кем разговариваешь, ибо зараза
гнездится в самом воздухе. Я слышал, как люди говорили об этом взволнованно,
с испугом.
- Я никогда не приближался к заразным, - горестно восклицал один, - я
заговаривал только со здоровыми и все-таки подцепил эту хворь!
- Убежден, это перст Божий, - говорил другой в припадке набожности.
А первый вновь восклицал:
- Я не бывал ни в заразных местах, ни рядом с заразными людьми! Не
иначе, как это в воздухе! Мы вдыхаем смерть вместе с воздухом, так что все в
деснице Господней, а от нее не укроешься.
В конце концов люди сделались равнодушнее к опасности {291}, менее
осмотрительны, стали меньше беречься, чем раньше, - особенно к концу
поветрия, когда оно достигло наивысшего размаха. Тогда, с поистине турецким
фатализмом {292}, стали они утверждать, что, если Богу угодно будет их
наказать, то все едино - ходить ли по улицам или сидеть дома - им все равно
не уберечься; и они храбро ходили по улицам куда угодно, даже в зараженные
дома и зараженные спальни, навещали больных, да что там - заразившись,
лежали в одной постели с женами и детьми. А последствия были те же, что в
Турции и других странах, где так поступают, а именно: они заражались друг от
друга и мерли сотнями и тысячами.
Я далек от того, чтобы приуменьшать страх гнева Божьего или
непочтительно относиться к Божественному промыслу, о котором, всегда должны
мы помнить в подобных случаях. Несомненно, такое испытание есть кара
Господня, посланная городу, стране или народу; знак Его гнева, призыв к
раскаянию, обращенный к этому городу, стране или народу, согласно тому, что
было сказано Господом пророку Иеремии (глава 18, стих 7-8): "Иногда Я скажу
о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если
народ этот, на который Я это нарек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю
то зло, которое помыслил сделать ему". Именно, чтобы передать должное
впечатление страха Божьего на умы людей в то время и не приуменьшить его, я
и вдаюсь во все эти мелкие подробности.
Поэтому, повторяю, я не отрицаю права рассматривать такие вещи как
непосредственный знак карающей десницы Господней, как указания на Божий
промысел; нет-нет, наоборот, было множество удивительных случаев спасения
людей от заражения и спасения уже заразившихся, которые указывают на
удивительное и весьма знаменательное вмешательство Провидения во всех этих
отдельных случаях; да и свое собственное спасение считаю я чуть ли не чудом
и всегда размышляю о нем с благодарностью.
Но раз я говорю о чуме как болезни, проистекающей от естественных
причин, то нужно считать, что она и распространяется естественным путем;
оттого, что она передается через заболевших людей и их пожитки, она не
становится в меньшей степени карой Господней; ведь если Божественной волей
создана вся природа и естественный ход вещей, то эта воля, равно спасающая и
карающая, и проявляется через обычные, естественные причины и через действия
людей; так что Господь действует естественными способами и средствами,
оставляя за собою право в исключительных случаях прибегать к
сверхъестественным мерам. И совершенно очевидно, что в случае заразы нет ни
малейшей нужды в исключительном, сверхъестественном вмешательстве: обычного
хода вещей вполне достаточно, чтобы осуществить все, что угодно Небу. Среди
этих способов осуществления и скрытая передача заразы, неразличимой и
неизбежной, и ее более чем достаточно, чтобы обнаружить всю суровость гнева
Божьего, не прибегая к каким-либо сверхъестественным объяснениям и чудесам.
Зараза была столь сильна и распространялась так неуловимо, что и
величайшие предосторожности не могли обеспечить безопасности, пока человек
находился в пораженном болезнью городе. Однако, убежден - и у меня столько
примеров, еще свежих в памяти, что убеждение это невозможно оспорить, - что
никто во всем государстве не заразился иначе, чем самым естественным путем,
получив болезнь либо от недужного, либо от одежды, прикосновений, испарений
кого-либо, кто уже заразился раньше.
Подтверждается это и тем, как чума пришла в Лондон, а именно: с
товарами из Голландии; туда же она попала из Леванта; и впервые она
разразилась в том доме в Лонг-Эйкре, куда свезены были эти товары и где были
они распакованы; а потом уж распространилась оттуда на другие дома
вследствие неосмотрительного общения с больными и через заразившихся
приходских чиновников, которые осматривали тела умерших. В отношении этого
изначального момента есть мнения самых авторитетных лиц: чума передавалась
от человека к человеку, из дома в дом, и никаким другим способом. В первом
зараженном доме умерло четверо {293}. Соседка, прослышав, что хозяйка этого
дома больна, пошла навестить ее, вернулась домой, заразила домашних, и там
умерло все семейство. Священник, приглашенный на отпевание первого умершего
во втором доме, говорят, сразу же заразился и умер с несколькими своими
домочадцами. Тогда врачи начали подумывать о поголовной заразе, что сначала
им и в голову не приходило. Осмотрев тела, врачи сообщили, что это не более
и не менее как чума со всеми ее зловещими признаками и что городу угрожает
мор, так как многие уже общались с больными и заразными и в них тоже вошла
зараза, так что приостановить ее будет трудно.
Здесь мнение врачей сошлось с моим последующим наблюдением: болезнь
распространяли невольно; ведь заболевший мог заразить лишь тех, кто к нему
приближался, но зараженный человек, который об этом не подозревает, ходит по
улицам и по дому, как здоровый, передает чуму сотням людей, а те, в свою
очередь, разносят ее дальше; при этом ни заражающий, ни зараженный ничего об
этом не знают и иногда пребывают в неведении по нескольку дней.
К примеру, многие во время этого испытания и не подозревали, что
больны, пока, к невыразимому своему ужасу, не обнаруживали "знаки" болезни,
после чего они редко жили долее шести часов; потому что эти пятна, которые
называли "знаками", были на самом деле гангренозные пятна или омертвелое
мясо в виде маленьких бугорков величиной с пенни и твердых, как мозоль или
роговица; когда болезнь доходила до этой стадии, смерти было не миновать; и
однако, как я уже говорил, люди и не подозревали, что больны, и не
чувствовали себя плохо, пока эти смертные знаки не появлялись на теле. Но
всем было ясно, что заражены они были уже раньше и какое-то время так ходили
и что их дыхание, пот, даже одежда источали заразу уже много дней.
Все это порождало множество случаев, о которых врачам, конечно, лучше
известно, чем мне; но кое-что я и сам наблюдал, кое о чем слышал и некоторые
из этих случаев сейчас расскажу.
Один горожанин, благополучно здравствовавший до конца сентября - в это
время вся тяжесть болезни более, чем когда-либо, легла на Сити, - был
настроен весьма жизнерадостно, а иногда (по моим представлениям) и
хвастливо, утверждая, что он спокоен за свою безопасность, так как неизменно
осторожен и никогда не приближается к заразным. Однажды его сосед сказал
ему:
- Не будьте так самонадеянны, мистер***, сейчас трудно отличить
больного от здорового, иногда встречаешь человека бодрым и здоровым на вид,
а через час - глядь, он скончался.
- Ваша правда, - сказал первый, он не был чрезмерно самонадеян, просто
ему долгое время удавалось избегать опасности, и люди, особенно в Сити, как
я уже говорил, стали смотреть на нее легкомысленно. - Ваша правда, - сказал
он, - я и не считаю, что вообще не могу заразиться. Просто надеюсь, что
никогда не бывал в компании, где хоть кто-нибудь представлял бы опасность.
- Да что вы? - сказал его сосед. - А разве не были вы позавчера в
таверне "Бычья голова" на Грейс-Черч-стрит {294} с мистером***?
- Да, - сказал первый, - но опасаться там было некого.
На это сосед ничего не сказал, не желая пугать его, однако собеседник
его стал более подозрительным, и чем уклончивее отвечал сосед, тем
нетерпеливее он становился, и наконец запальчиво спросил напрямик:
- Надеюсь, он не умер?
Его сосед молча воздел очи гор_е_ и что-то пробормотал себе под нос.
После чего первый горожанин сказал, побледнев:
- Тогда считайте, что и я мертвец.
После чего сразу же пошел домой и послал за ближайшим аптекарем, чтобы
получить какое-нибудь предохранительное средство, так как больным он себя
еще не чувствовал; но аптекарь, осмотрев его грудь, только и сказал: "Все в
руках Божиих!" - а через несколько часов бедняга скончался.
По этому рассказу каждый может судить, возможно ли было усилиями
магистрата при помощи запирания больных или удаления их остановить заразу,
которая передавалась от человека к человеку, когда зараженный выглядел
совершенно здоровым, не подозревал о приближении болезни и оставался таким
не один день.
Пожалуй, тут уместно будет спросить, как долго мог человек носить в
себе семя заразы, прежде чем оно проявлялось самым роковым образом, и как
долго мог он разгуливать внешне целехоньким, а на самом деле заразным для
каждого, кто приближался к нему? Мне кажется, самые знаменитые врачи не
более моего знают об этом, и подчас обычный наблюдатель может заметить то,
что ускользает от их внимания. В целом, по мнению врачей, болезнь может
находиться в скрытом состоянии в дыхательных путях или кровеносных сосудах в
течение долгого времени. Зачем бы иначе держали они в карантине тех, кто
пришел в гавани и порты из всяких подозрительных мест? Сорок дней, надо
думать, слишком большой срок для человеческой природы, чтобы сражаться с
таким врагом - она значительно быстрее либо победит, либо уступит ему. По
моим собственным наблюдениям, этот период скрытой заразности мог длиться не
более 15 или 16 дней; и именно по этой причине, если по прошествии 16-18
дней в доме, запертом после того, как кто-либо из его обитателей умер от
чумы, никто больше не заболевал, то к ним относились уже не так строго и
даже разрешали выскальзывать на улицу; да и таких людей меньше боялись,
считая, что они лучше вооружены против болезни, так как не поддались врагу,
когда он был в их собственном доме; но иногда болезнь таилась гораздо
дольше.
В заключение всех этих наблюдений должен сказать, что, хотя Богу угодно
было, чтобы сам я действовал вовсе не так, все же, по-моему, лучший совет
следующий: самое надежное лекарство от чумы - бежать от нее подальше {295}.
Знаю, люди подбадривают себя, утверждая: Господь может сохранить нас в
пучине бедствий и погубить нас, когда нам кажется, что никакие бедствия не
угрожают; и этот довод удержал в городе многих их тех, чьи тела целыми
телегами отправляли в яму и кто, если бы уехал, полагаю, остался бы целым и
невредимым, во всяком случае, это весьма вероятно.
И если эта главная идея будет понята, то в дальнейшем, в случае
возникновения таких же или подобных ситуаций, я уверен, люди предпримут
совсем иные меры, чтобы уберечься от заразы, чем те, что принимались в 1665
году и, насколько я знаю, принимаются за границей. Короче, они задумаются
над тем, как разделить население на меньшие группы, вовремя отправить их в
разные места и не позволить такой заразе, особенно опасной для скученного
населения, обрушиться на миллион люден сразу, как это было в нашем случае и
как, конечно, будет, если вновь когда-либо на нас обрушится такая напасть.
Чума подобна большому пожару {296} - если он начнется в отдельно
стоящем доме, на отшибе, как мы говорим, то только этот один дом и сгорит;
если же несколько домов соприкасаются, там, где он начался, он сожжет эти
несколько домов; но если он зародился в скученном городе или в Сити, пожар
разгорится сильнее, ярость огня будет нарастать, и он станет бушевать до тех
пор, пока не пожрет все, до чего сможет добраться.
Я могу предложить множество планов, на основе которых городские власти,
если им вновь будет угрожать такая опасность (не приведи Господь, чтобы это
случилось!), могли бы избавиться от большинства нежелательных горожан {297},
я имею в виду нищих, голодающих, бедняков, живущих поденным трудом, и
особенно тех, кого в случае осады города называют "лишними ртами"; их весьма
осторожно и к их же благу можно было бы удалить из города, а зажиточные
жители удалились бы сами, прихватив своих детей и прислугу; тогда Сити и
прилегающие к нему районы были бы так хорошо эвакуированы, что не осталось
бы и десятой части жителей на растерзание болезни. Но предположим даже, что
осталась пятая часть, то есть 50 200 жителей, то и в этом случае, когда
начнется чума, они смогут так свободно и просторно расположиться, что будут
значительно лучше подготовлены и защищены от заразы и менее ей подвержены,
чем если бы такое же число людей жило в сравнительно маленьких городах вроде
Дублина или Амстердама.
Не спорю, сотни, даже тысячи семей бежали во время последней чумы, но
многие из них бежали слишком поздно, и не только умерли в дороге, но и
занесли болезнь в те сельские местности, куда они отправились, и заразили
тех, к кому приехали, ища спасения. Это несколько путает карты, так как
получается, что лучший способ избавиться от чумы приводит к распространению
заразы, и это очевидней всего подтверждает то, о чем я уже вскользь
упоминал, теперь же остановлюсь подробнее, а именно: человек в течение
многих дней ходит внешне здоровым уже после того, как болезнь в скрытом виде
проникла в его организм и поразила важнейшие жизненные органы; и все это
время такой человек опасен для окружающих; именно такие люди заражали
города, через которые они проходили, и семьи, в которых они останавливались;
и именно благодаря этому почти во всех крупных городах Англии - где больше,
где меньше - наблюдались случаи болезни, причем всегда оказывалось, что тот
или иной лондонец занес ее туда.
Нельзя не отметить, говоря об опасности подобных людей, что сами они,
полагаю, находились в полнейшем неведении относительно своего состояния;
иначе следовало бы считать их сознательными убийцами, раз они покидали
Лондон и общались со здоровыми людьми; в таком случае это подтверждало бы
предположение, о котором я уже упоминал и которое сам считаю неверным, -
будто заболевшие совсем не береглись, чтоб не передать заразу другим, а,
наоборот, охотно это делали; я же полагаю, что это не так и что характер
течения самой болезни породил подобное предположение.
Знаю, что никакой частный случай не подтверждает общее правило, но могу
назвать нескольких человек, продемонстрировавших как раз обратное (о них еще
помнят ныне здравствующие их соседи и члены их семей). Один из таких, глава
семьи, жившей неподалеку от меня, заразился, как он полагал, от наемного
рабочего, в дом которого зашел не то проведать его, не то за какой-то
работой, которую тот должен был доделать; когда он подошел к дверям этого
бедняка, у него даже появилось дурное предчувствие, но, так как полной
уверенности не было, он вошел в дом; на следующий день стало ясно, что он
очень болен; тут же попросил перенести себя в отдельное строение посреди
двора, где была комнатка над его мастерской (он был медник). Здесь он болел,
здесь и умер, не позволив ухаживать за собой никому из своих близких, а
только наемной сиделке; он не разрешал ни жене, ни детям, ни слугам входить
в его комнату, чтобы они не заразились, и лишь послал им свое благословение
и напутствие через сиделку, которая, находясь на расстоянии, передала его
слова его семейству - а без этого, он знал, они бы стали настаивать на
прощании; и все это из страха заразить кого-нибудь из них.
И должен заметить, что чума, как, вероятно, и все другие болезни,
воздействует на разные организмы по-разному {298}, некоторые оказываются
сразу сраженными ею: у них начинаются сильный жар, рвота, непереносимые
головные боли, боли в спине и прочие мучения, доводящие людей до
умопомешательства; у других образуются затвердения и нарывы на шее, в паху и
под мышками, которые доставляют непереносимые страдания и муки, пока не
прорвутся, а у третьих, как я уже говорил, болезнь протекает в скрытой
форме, лихорадка незаметно захватывает их, и они почти не ощущают ее, пока
не начинается головокружение; тогда они падают в обморок и умирают без
особых мучений.
Я не врач, чтобы входить в частности, причины и всякого рода проявления
одной и той же болезни, а также разнообразие ее протекания у разных людей;
не мое дело и рассказывать о собственных наблюдениях такого рода: ведь
доктора это уже сделали лучше меня, и мои наблюдения в каких-то отношениях
могут не совпадать с их точкой зрения. Я только рассказываю о том, что знаю,
что видел сам, о чем слышал, об отдельных случаях, попавших в мое поле
зрения, и о разных проявлениях болезни в тех самых случаях, о которых я
говорю; но нужно добавить: хотя первый случай, то есть открытая форма
болезни с жаром, рвотой, головной и другими болями, затвердениями и прочее,
была мучительней и многие умирали в страшных страданиях, но все же последняя
форма была страшней: ведь от первой нередко выздоравливали, особенно если
прорывались бубоны, последняя же влекла неизбежную смерть; ни лекарства, ни
помощи тут не существовало никакой - смерти было не миновать. Кроме того,
эта форма была хуже для окружающих, потому что, как я уже говорил, больные
незаметно и неощутимо для самих себя передавали страшную болезнь тем, с кем
они общались; смертельный яд попадал в кровь неотвратимым и неисповедимым
способом.
Это распространение болезни, когда ни заразивший, ни заразившийся и не
подозревали об этом, вероятно, связано с двумя видами течения болезни,
причем оба они часто встречались в то время. И едва ли кто-нибудь,
переживший Лондонскую чуму, не припомнит случаев, подтверждающих оба эти
вида.
1. Отцы и матери семейств разгуливали, как здоровые люди (да они и
считали себя здоровыми), пока невольно не заражали всю семью и не
становились источником ее гибели, чего они никогда бы не совершили, имей они
хоть малейшее подозрение, что больны и представляют опасность для других.
Одна семья, о которой я слышал, была вот так заражена отцом, причем болезнь
стала проявляться у других даже раньше, чем у него самого, но после
тщательного осмотра оказалось, что он уже болен некоторое время; и когда он
узнал, что его семья была заражена им самим, он повредился в рассудке и
наложил бы на себя руки, если б только его не остановили те, кто за ним
присматривал; он умер через несколько дней.
2. Другой случай: люди, здоровые, по их собственному представлению и по
внешнему виду, и лишь ощущавшие в последние несколько дней потерю аппетита
или легкое расстройство желудка (да что там, у некоторых аппетит был
прекрасный и только слабая головная боль), так вот, такие люди посылали за
врачом, чтоб избавиться от легкого недомогания, и, к величайшему их
изумлению и ужасу, оказывалось, что они на пороге смерти: "знаки" уже
проступили и чума дошла до неизлечимой стадии.
Страшно подумать, что, возможно, уже в течение одной-двух недель
подобные люди несли смерть и разрушение, губя тех, ради спасения которых
рискнули бы, возможно, собственной жизнью, и, целуя и обнимая собственных
детей своих, вдыхали в них смерть. Однако именно так это было, и было не
раз, я могу привести немало подобных случаев. Но, коль удар поражал так
неожиданно, коли стрелы летели невидимые и неразличимые глазом, - то что
толку было во всех этих мерах по запиранию домов и удалению заболевших? Все
эти меры относились лишь к тем, по кому было видно, что он болен и заразен,
тогда как в это же время рядом находились тысячи людей внешне здоровых, но
несущих окружающим смерть.
Это часто ставило в тупик врачей, и особенно аптекарей и хирургов,
которые не знали, как отличить больных от здоровых. Все они допускали, что
на самом деле многие носили чуму в самой своей крови, она угнетала все их
душевные силы, они были не более как гниющими трупами, чье дыхание заразно,
чей пот ядовит, - и в то же время внешне они ничуть не отличались от других
людей и даже сами не знали о своем состоянии; повторяю, многие допускали,
что это именно так, но не знали, как обнаружить болезнь.
Мой друг доктор Хитт придерживался мнения, что обнаружить заразу можно
по запаху изо рта; но кто, добавлял он, осмелится принюхиваться к дыханию,
чтобы узнать об этом? Ведь чтобы точно удостовериться и различить запах,
человек должен сам вдохнуть зловоние чумы! Другие, как я слышал, высказывали
мнение, что заразу можно распознать, если подышать на зеркало: на нем
дыхание сгущается, и можно увидеть в микроскоп странных, чудовищных, жутких
существ {299}, вроде драконов, змей и дьяволов, ужасных на вид. Но я сильно
сомневаюсь в правдивости этого утверждения, да и не было у нас в то время
микроскопов, чтобы поставить опыт.
По мнению еще одного ученого мужа, дыхание такого человека убьет
наповал птицу, и не простую маленькую пичужку, но даже петуха или курицу, а
уж если не убьет, то, во всяком случае, как говорится, оглушит ее; если же
она в это время откладывала яйца, то все они будут тухлые. Однако я никогда
не видал и не слыхал, чтобы все эти мнения подтверждались опытами, так что я
передаю только слухи, добавляя при этом, что, по-моему, это весьма вероятно.
Другие полагали, что таким людям стоит сильно подышать на теплую воду,
и на ней появится необычная пена; можно, говорили, использовать вместо воды
и другие вещества, особенно клейкие, вязкие и способные к пенообразованию.
Однако в целом я пришел к выводу: характер этой заразы таков, что
совершенно невозможно распознать ее или предотвратить ее распространение -
это выше сил человеческих.
Но тут возникает одна загвоздка, которую я по сей день не могу
объяснить и по поводу которой могу сказать лишь следующее: первый человек
умер от чумы около 20 декабря 1664 года в районе Лонг-Эйкра {300}, и все
говорили, что заразился он от тюка с шелками, привезенного из Голландии,
который был распакован в этом доме.
Но после этого не слышно было, чтобы кто-нибудь умирал в этом месте от
чумы или от какой другой болезни вплоть до 9 февраля, когда, почти семь
недель спустя, еще один человек из того же дома был похоронен. Потом все
затихло, и народ надолго успокоился, так как в недельных сводках не
упоминались умершие от чумы вплоть до 22 апреля, когда от чумы схоронили еще
двоих, но уже не в том же доме, а на той же улице; насколько я помню, они
были из соседнего дома. Все эти смерти происходили с большими промежутками,
на протяжении девяти недель, потом еще две недели никто не умирал, а уж
потом болезнь разразилась сразу на нескольких улицах и пошла
распространяться повсюду. И теперь возникает вопрос: где все это время
гнездились семена заразы? Почему болезнь так долго медлила, а потом стала
развиваться так быстро? Быть может, зараза не переходила непосредственно от
человека к человеку? А если переходила, то, выходит, человек может быть
заразным в течение многих дней, а то и недель, не обнаруживая, однако,
признаков болезни; тогда уж нужен не карантин, а, если так можно выразиться,
сексантин, чтобы он длился не сорок, а шестьдесят дней и более.
Правда, как я уже говорил раньше и как прекрасно известно многим ныне
здравствующим свидетелям того времени, зима выдалась очень холодная, и
морозы стояли целых три месяца; это, утверждали доктора, могло сдерживать
заразу; {301} но тогда - да позволят мне ученые высказать эту мысль, - если
болезнь, так сказать, только замерла, подобно реке в стужу, она должна бы,
оттаяв, вернуться к обычной силе течения, - однако основной перерыв в
распространении болезни был между февралем и апрелем уже после того, как
закончились морозы и установилась теплая мягкая погода.
Но есть и совсем иной способ разрешения всех этих трудностей и
неясностей, который я могу предложить, опираясь на собственные воспоминания,
а именно: не следует так полагаться на утверждения, что между 20 декабря, 9
февраля и 22 апреля никто не умирал от чумы {302}. Так утверждают
еженедельные сводки, но им не следует полностью доверять, во всяком случае,
я не доверяю им в таком важном вопросе и не строю на них своих
предположении; ведь все мы тогда придерживались мнения, и не без оснований,
что в отчетах приходских чиновников, наблюдателей и тех, кто указывал, от
какой болезни умер тот или иной человек, было много жульничества; так как
людям поначалу страшно не хотелось, чтобы соседи знали, что в их доме
поселилась такая зараза, они за деньги или каким-то иным способом
обеспечивали, чтобы их покойников числили умершими от всяких иных болезней;
то же самое, как я знаю, практиковалось позднее во многих местах, можно даже
сказать, везде, куда бы ни приходила болезнь; это обнаруживается и в
недельных сводках по резкому возрастанию смертности от других болезней в
период чумы, например с июля по август, когда болезнь все больше набирала
силу, стало обычным делом, что за неделю умирало от тысячи до тысячи
двухсот, а то и до полутора тысяч от других болезней. И дело не в том, что
количество умерших от этих болезней возросло до такой степени, а в том, что
огромное число зараженных семей и домов получило каким-то образом привилегию
числить своих мертвецов умершими от других болезней {303}, и все это, чтобы
уклониться от запирания домов. Например:
Умершие, помимо чумы, от других болезней:
С 18 по 25 июля 942
С 25 июля по 1 августа 1004
С 1 августа по 8 августа 1213
С 8 августа по 15 августа 1439
С 15 августа по 22 августа 1331
С 22 августа по 29 августа 1394
С 29 августа по 5 сентября 1264
С 5 сентября по 12 сентября 1056
С 12 сентября по 19 сентября 1132
С 19 сентября по 26 сентября 927
Так вот, сомнений не было, что большая часть указанных здесь людей
умерла от чумы, но чиновников уговорили записать их умершими от других
болезней, при этом количество умерших по конкретным названиям распределялось
следующим образом:
авг. авг. авг. авг. 29 авг. сент. сент. сент.
с 1-8 8-15 15-22 22-29 5 сент. 5-12 12-19 19-26
Лихорадка 314 353 348 383 364 332 309 268
Сыпной тиф 174 190 166 165 157 97 101 65
Обжорство 85 87 74 99 68 45 49 36
Зубная боль 90 113 111 133 138 128 121 112
663 743 699 780 727 602 580 481
Было и еще несколько рубрик, которые возросли в той же пропорции и по
той же причине, в том числе умерших от старости, чахотки, отравлений,
нарывов, колик и прочего; многие из этих людей болели чумой, но так как
делом первостепенной важности для их семейств было скрыть, что они заразные,
если только это было возможно, то они и делали все от них зависящее, чтобы
это не выяснилось, и если кто-либо в доме умирал, уговаривали наблюдателей и
осматривающих числить причиной смерти не чуму.
Повторяю, этим-то и можно объяснить большой промежуток времени между
смертью первых нескольких человек, записанных в сводках погибшими от чумы, и
тем моментом, когда болезнь распространилась столь очевидно, что скрывать
долее это было нельзя.
Кроме того, сами еженедельные сводки с очевидностью обнаруживали
правду: хоть в них и не упоминалась чума или увеличение смертности от нее,
однако в них явно возросла смертность от тех болезней, которые чем-то
напоминали чуму; {304} например, в то время, как от чумы смертей или вообще
не было указано, или, если указано, то очень мало, от сыпного тифа умирало
по восемь, двенадцать, даже семнадцать человек в неделю, тогда как раньше от
тифа за неделю умирало от одного до четырех человек.
Примерно так же, как я уже говорил, и количество похорон возросло
именно в том и в близлежащих приходах, как ни в каком другом месте, хотя
утверждалось, что умерших от чумы не было; все это ясно говорит, что зараза
продолжала распространяться и болезнь в действительности не прекращалась,
хотя нам казалось, что она кончилась, а затем вновь вспыхнула со страшной
силой.
Могло быть и так, что зараза оставалась в другой части привезенных
товаров, которые, возможно, не сразу или не полностью распаковали, либо в
одежде первых заболевших от нее; потому что трудно себе представить, что
кто-нибудь ходил целых девять недель, пораженный этой роковою, смертельной
болезнью, и чувствовал себя настолько хорошо, что даже не замечал своего
состояния; но ежели это было так, то вот сильнейший довод в пользу того, о
чем я уже говорил, а именно, что зараза гнездится во внешне здоровом теле и
передается другим, причем об этом не подозревает ни тот, кто распространяет
заразу, ни тот, кто подхватывает ее.
Сознание, что заразу можно получать таким удивительным образом от
внешне здоровых людей, привело всех в великое замешательство; люди стали
сторониться друг друга и выражать крайнюю подозрительность к окружающим.
Однажды, в какой-то праздник, воскресный это был день или нет, не припомню
сейчас, на скамьях в церкви, где была масса народу, какой-то женщине
примстилось, что она чувствует дурной запах; она шепотом сообщила о своих
подозрениях соседке, а потом поднялась и вышла из церкви; слух тут же
распространился далее, и сразу же все, сидевшие на этой скамье и на
двух-трех соседних, покинули храм, сами не понимая, кто и чем напугал их.
Тут же все стали держать во рту всевозможные предохранительные средства
по совету старых бабок, а иногда и врачей, якобы помогающий от заразы через
дыхание больных; доходило до того, что, если случалось нам зайти в церковь,
когда было там много народа, смесь всяких запахов была в храме не менее
сильная (хотя, возможно, и менее здоровая), чем в аптекарской лавке. Короче,
в церкви человек себя чувствовал так, будто его посадили во флакон с
нюхательной солью: из одного места несет всякого рода духами, из другого -
ароматическими веществами, бальзамами, лекарствами и травами, из третьего -
солями и кислотами, так как каждый чем-нибудь да вооружился в заботе о
самосохранении. Однако я заметил, что после того как горожане стали
одержимы, как я уже говорил, уверенностью, что зараза передается внешне
здоровыми людьми, толпы в церквах и молитвенных домах значительно поредели
по сравнению с прежними временами. Хотя нужно сказать, что в Лондоне за весь
период чумы церкви и молельные дома никогда полностью не закрывались, и люди
не уклонялись от публичных богослужений, за исключением тех приходов, где
особенно бушевала болезнь, да и то лишь на период самого страшного ее
разгула.
Поистине удивительно было наблюдать, с каком смелостью люди шли на
богослужение, даже когда они боялись выйти из дома по любой другой
надобности (я имею в виду то время, которое предшествовало периоду отчаяния,
о котором я говорил). Тут и обнаруживалось, насколько густо населен город, и
это несмотря на то, что огромная масса народу бежала в сельские местности
при первой же тревоге, и не считая тех, кто бежал позднее в поля и леса,
причем количество таких людей все возрастало самым устрашающим образом. Ведь
когда мы выходили взглянуть на вереницы и даже толпы людей, тянущихся в
воскресный день в церковь, особенно в тех частях города, где чума уже спала
или, наоборот, не набрала еще силу, картина была потрясающем. Но я еще
расскажу об этом. А сейчас возвращаюсь к тому, как люди, сами не ведая того,
что больны, передавали друг другу заразу. Все боялись тех, кто был по виду
нездоров: людей с замотанной головой или перевязанной шеей, как это бывало в
случае проступивших бубонов. Вид такого человека действительно отпугивал
людей; но, когда перед ними был джентльмен, прилично одетый, подпоясанный, с
плоеным воротником, перчатками в руках, прибранными волосами и шляпой на
голове, такой не вызывал никаких подозрений, и люди спокойно разговаривали с
ним, особенно если жили по соседству и знали его. Но когда врачи уверили
нас, что опасность может проистекать в равной мере как от здоровых, то есть
внешне здоровых, так и от больных, и что те, кто считают себя совершенно
здоровыми, часто бывают самыми опасными, и что все должны это осознать и
помнить об этом, - тогда, повторяю, люди начали подозревать всех и каждого,
а многие вообще заперлись, чтобы вовсе не выходить на улицу и не общаться с
людьми, а также чтобы никто посторонний из тех, кто мог бывать в разных
компаниях, не вошел к ним в дом и не приблизился к ним, - во всяком случае,
не приблизился настолько, чтобы его дыхание и испарения достигли их; если же
им приходилось разговаривать с посторонними, они неизменно держали
предохранительные снадобья во рту и у одежды, чтобы отогнать и задержать
заразу.
Надо признать, что, когда люди стали прибегать к этим
предосторожностям, они меньше подвергали себя опасности, и зараза не
распространялась в их домах с такой яростью, как раньше, и тысячи семейств
уцелели (если, конечно, на то была воля Божия) благодаря использованию этих
средств.
Но вбить что-либо в башку беднякам было просто немыслимо. Как только
они заболевали, то кричали и жаловались на всю улицу со свойственной им
несдержанностью, но пока они были здоровы, они относились к себе с безумной
небрежностью, проявляя и тупость и упрямство. Какую бы работу им ни
предлагали, они тут же хватались за нее, сколь бы опасной по части заражения
она ни была; и если их предупреждали об этом, они отвечали обычно: "Я
полагаюсь на Господа Бога, и, если заболею, значит, мне на роду написано, и
уж тогда мне все едино конец". Или еще: "А что мне делать? Голодать же я не
могу. Не все ли равно - помереть от чумы или с голоду? Работы-то у меня
нету. Что же делать? Либо браться за эту, либо милостыню просить". И о чем
бы ни шла речь - о погребении мертвых, об уходе за больными, о сторожах при
запертых домах, то есть о самых опасных работах, - все говорили примерно
одно и то же. Что правда, то правда - нужда вполне справедливое и законное
оправдание {305}, лучшего и не придумаешь; но они говорили все то же, когда
дело было и не в нужде. Именно это бесшабашное поведение бедняков приводило
к тому, что чума среди них свирепствовала с особой яростью; и так как
вдобавок, заболев, они оказывались в особенно бедственном положении, то
понятно, что они мерли "пачками", если так можно выразиться; и не могу
сказать, чтобы хоть на йоту прибавлялось им хозяйственности (я говорю сейчас
о тех из них, кто работал), когда у них появлялись деньги, по сравнению с
периодами безденежья - они оставались все такими же сумасбродами и
транжирами, равнодушными к завтрашнему дню, как и раньше; так что как только
они заболевали, они тут же оказывались в самом бедственном положении - и
из-за нужды, и из-за болезни; из-за отсутствия пищи в той же мере, как и
из-за отсутствия здоровья.
Я сам не раз был свидетелем бедственного положения бедняков, но также и
благотворительной помощи, которую оказывали им ежедневно {306} набожные люди
- и одеждой, и лекарствами, и многим другим, в чем те нуждались; поистине,
мы не воздали бы должного людям того времени, если не сказали бы здесь, что
не только большие и очень большие суммы посылались лорд-мэру и олдерменам на
нужды благотворительности, на помощь и поддержку обездоленным и хворым, но и
множество частных лиц ежедневно раздавало крупные суммы на облегчение их
нужд и посылало разузнать о положении некоторых особенно бедствующих семей с
целью оказать им поддержку; да что там, некоторые религиозные дамы настолько
усердствовали в своем рвении при осуществлении этого доброго дела, настолько
преисполнились веры в поддержку Провидения при исполнении главнейшего нашего
долга - милосердия, что самолично раздавали милостыню беднякам и даже
заболевшим семьям, хоть те и были заразными, прямо у них в домах, направляли
сиделок тем, кто нуждался в уходе, отдавали распоряжения аптекарям и
хирургам: первым - снабжать больных лекарствами, примочками и прочим; вторым
- вскрывать нарывы и делать перевязки, если это понадобится; и, кроме того,
оказывали беднякам всяческую моральную поддержку и молились за них.
Не буду утверждать, как некоторые, что ни одна из этих сердобольных
женщин сама не попала в бедственное положение; но одно могу сказать точно:
никогда не слыхал я о том, чтобы хоть у кого-либо из них болезнь кончилась
смертельным исходом; а упоминаю я об этом для поощрения остальных, если
случится еще такая беда; ведь несомненно: раз тот, кто подает деньги,
одалживает их Господу Богу, то и Он воздаст им сторицей; так и те, кто
рискует собственной жизнью, отдавая ее за бедняков, чтобы утешить их и
помочь им в несчастии, может уповать на поддержку Господню в делах своих.
Нельзя сказать и того - я никак не могу расстаться с этой темой, - что
столь значительные проявления благотворительностн были так уж редки: ведь
благотворительные пожертвования богатых людей города и пригородов, а также
сельских местностей были столь велики, что огромное число людей, которым
суждено было бы погибнуть если не от болезни, так от нужды, было благодаря
им спасено и поддержано; и хотя мне так и не удалось узнать (да сомневаюсь,
что кто-либо вообще располагал здесь точными данными), сколько именно было
пожертвовано, однако, на основании того, что мне говорили, полагаю: на
облегчение положения бедняков в этом несчастном, пораженном болезнью городе
было пожертвовано не многие тысячи, а многие сотни тысяч фунтов... Да что
там, один человек заверял меня, что он ручается за цифру, превышающую сотню
тысяч в неделю, распределявшуюся церковными старостами некоторых приходских
советов и получаемую от лорд-мэра и олдерменов в некоторых районах и
окрестностях города или по специальному распоряжению мировых судей на
территориях, которые им подвластны; и все это помимо частной
благотворительной помощи, распределяемой набожными людьми, о чем я уже
говорил; и так продолжалось много недель кряду.
Спору нет, сумма огромная; но если правда, что, как мне говорили, в
одном только Крипплгейтском приходе было за неделю роздано на облегчение
положения бедняков 17 800 фунтов {307}, то и эта сумма не покажется такой уж
невероятной.
Несомненно, это нужно рассматривать как одно из проявлений милости
Провидения к нашему огромному городу (и все эти проявления обязательно
следует упомянуть), - я имею в виду тот замечательный факт, что Богу угодно
было так разжалобить сердца людей во всем королевстве, что они с радостью
жертвовали на лондонских бедняков; полезность этих пожертвований сказалась
на многом, но прежде всего они сохранили тысячам жизнь и здоровье и оградили
десятки тысяч от голода и гибели.
А сейчас, раз уж я заговорил о милости Провидения в ту годину бедствий,
не могу не упомянуть снова, хоть я и говорил уж об этом в нескольких других
местах, о распространении болезни; о том, что началась она в одном конце
города и распространялась медленно и постепенно, от одного района к другому,
подобно грозовой туче, которая по мере того, как сгущается и застит свет в
одной части неба, редеет и развеивается с другой стороны. Так и чума: она
яростно двигалась с запада на восток, но, по мере того как усиливалась на
востоке, ослабевала на западе, благодаря чему те части города, которые еще
не были ею охвачены, или где она уже отбушевала, могли, как оказалось,
облегчить положение другим; в то время как, распространись зараза надо всем
городом и пригородами одновременно, бушуя повсюду с одинаковой силой,
подобно тому как это случалось кое-где за границей, все население города
было бы сокрушено, так что мерли бы по двадцать тысяч человек в день, как,
говорят, и было в Неаполе; и люди не смогли бы помогать своим ближним и
поддерживать друг друга в этой беде.
Ведь нельзя не сказать, что в разгар чумы люди действительно
оказывались в самом бедственном положении; их оцепенение и ужас невозможно и
описать. Но еще незадолго до всплеска поветрия и вскорости после его спада
они были (а потом вновь становились) совсем иными людьми. Не могу не
признать, что здесь ярко проявилась присущая нам в то время, как, правда, и
всему человечеству, способность, а именно: забывать об опасности, когда она
миновала. Но у меня еще будет случай поговорить об этом.
А сейчас надо не забыть упомянуть о положении с торговлей {308} в то
бедственное время, причем сказать и о заморской торговле, и о торговле
внутри страны.
Что касается внешней торговли, то говорить здесь почти что не о чем.
Вся торговая Европа боялась нас смертельно; ни один порт Франции, Голландии,
Испании и Италии не принимал наши корабли и не поддерживал с нами никаких
связей; да к тому же у нас были очень плохие отношения с голландцами: мы
вели с ними жесточайшую войну, хотя и не имели особых возможностей воевать
на чужой территории - ведь в нашем собственном доме был столь грозный враг!
И вот наши купцы пребывали в полном бездействии; их корабли никуда не
могли идти - я хочу сказать, ни в один заграничный порт; к их товарам и
изделиям - я имею в виду то, что произведено было в нашей стране, никто не
хотел и притронуться за границей. Все боялись наших товаров не меньше, чем
наших людей; и у них были для этого основания: ведь наши шерстяные изделия и
ткани передавали заразу, как и человеческие тела; если их упаковывали
больные, то эти вещи тоже передавали заразу, так что покупать их было так же
опасно, как общаться с больными людьми; и поэтому, если какой-нибудь
английский корабль приходил в иностранный порт и груз разрешали спустить на
берег, тюки обязательно распаковывали, а их содержимое проветривали в
специально отведенных для этого местах. Лондонским же кораблям вообще не
разрешалось заходить в порты, а тем более спускать груз на берег - ни на
каких условиях; особенно строго эти правила соблюдались в Испании и Италии.
В Турции и на островах "арха" {309}, как их называли, а также на островах,
принадлежащих Турции и Венеции, таких строгостей не было. Поначалу там не
было вообще никаких ограничений; и четыре корабля, которые уже стояли на
реке с грузом для Италии - а именно: для Лекгорна {310} и Неаполя, - когда
их, по их выражению, отвергли в порту, проследовали в Турцию и были приняты
и разгружены там без каких-либо затруднений; только оказалось, что часть
груза не подходит для продажи в этой стране; другая же часть предназначалась
купцам в Лекгорн, и у капитанов кораблей не было ни права распоряжаться
товарами, ни каких-либо инструкций; так что купцы, пославшие товары,
оказались в весьма затруднительном положении. Но все это было не так уж
страшно: пришлось только уведомить купцов из Ливорно и Неаполя и перевезти
обратно товары, непригодные для продажи в Смирне и Скандеруне {311}, на
других кораблях.
Неудобства в Испании и Португалии были намного значительнее, так как
эти страны ни под каким видом не разрешали нашим кораблям, особенно из
Лондона, причаливать к их портам, а уж тем более разгружаться. Рассказывали
про один корабль, которому при помощи каких-то уловок удалось спустить
привезенные товары на берег, причем среди них были тюки с тканями - хлопком,
домоткаными сукнами и тому подобным; так вот, испанцы заставили сжечь все
выгруженные товары и подвергли смертной казни тех, кто разрешил спустить их
на берег. И я в общем-то этому верю, хотя и не одобряю такие поступки;
ничего невероятного в этом нет, если учесть, как велика была опасность и как
бушевала зараза в Лондоне.
Слышал я также, что наши корабли занесли чуму в некоторые из этих
стран, особенно в порт Фаро в королевстве Альгарва {312}, принадлежавший
португальской короне, и что несколько человек погибло там от чумы, но это не
подтвердилось.
С другой стороны, хотя испанцы и португальцы так опасались нас,
очевидно одно: чума, как я уже говорил, началась в той части города, что
прилегала к Вестминстеру, а торговая часть (я имею в виду Сити и прибрежные
районы) оставалась незараженной, по крайней мере до начала июля, суда же на
реке - до начала августа; ведь к 1 июля в Сити от чумы умерло лишь семь
человек, а в слободах - около шестидесяти, однако из них всего один человек
пришелся на приход Степни, Олдгейт и Уайтчепл и только двое - на все восемь
приходов Саутуэрка. Но за границей для людей было все едино. Дурная весть,
что город Лондон заражен чумой, облетела весь свет, и никто не
интересовался, как распространяется зараза, в какой части города она впервые
появилась, какие районы захватила.
И потом, по мере того как чума стала распространяться, она так быстро
ширилась, а еженедельные сводки так резко поползли вверх, что не было и речи
о том, чтобы приуменьшать опасность или пытаться убедить людей за границей
более здраво смотреть на вещи, - еженедельные сводки говорили сами за себя;
того, что за неделю умирало от двух до трех тысяч человек, было достаточно,
чтобы растревожить торговцев во всем мире; и в дальнейшем бедствия самого
города усугубились и тем, что весь мир крайне настороженно отнесся к нему.
Кроме того, будьте уверены, что при пересказах бедственность положения
значительно усугублялась. Чума и сама-то по себе была ужасна, а состояние
людей отчаянно, как я уже говорил, но слухи все это безмерно преувеличивали,
и не стоит удивляться, что наши друзья за границей (такие особенно, как
корреспонденты моего брата в Португалии и Италии, - странах, с которыми он
вел особенно оживленную торговлю) утверждали, будто в Лондоне умирает по
двадцать тысяч человек в неделю; что незахороненные трупы лежат целыми
грудами; что живых не хватает хоронить мертвецов, а здоровых - ухаживать за
больными; что все королевство тоже заражено, так что мор стал всеобщим,
какого и не видывали еще в этих краях. И они с трудом поверили нам, когда мы
рассказали, как дела обстояли в действительности, что погибло не более одной
десятой населения Лондона, что в городе живет еще пятьсот тысяч человек
{313}, что теперь, когда люди стали вновь разгуливать по улицам, а те, кто
бежал из столицы, постепенно возвращаются, на улицах города вновь, как
обычно, снуют толпы народа, и только в каждой семье люди потеряли
родственников или друзей. Повторяю, никто не мог в это поверить; и если бы
вы спросили кого-нибудь из жителей Неаполя или других городов побережья
Италии, они рассказали бы вам, что в Лондоне когда-то был жесточайший мор
{314}, во время которого, как и сейчас, умирало по двадцать тысяч в неделю,
и прочее и прочее; подобно тому, как мы, лондонцы, в свое время утверждали,
что в Неаполе в 1656 году была чума, во время которой умирало по двадцать
тысяч человек в день, что я имею все основания считать полнейшей выдумкой.
Все эти рассказы, сами по себе несправедливые и вредоносные, наносили,
кроме того, особенно большой урон нашей торговле. Так, прошло много времени
после окончания поветрия, прежде чем наша торговля с этими странами
возобновилась; а фламандцы и голландцы (особенно последние) получили от
этого огромную выгоду, захватив себе все рынки сбыта и даже закупая наши
изделия в тех частях Англии, где не было чумы, перевозя их в Голландию и
Фландрию, а оттуда уже - в Испанию и Италию как изделия собственного
производства.
Но подчас их выводили на чистую воду и наказывали, а именно: товары и
корабли конфисковывались, так как, если действительно наши товары (как и
наши люди) были переносчиками заразы и считалось небезопасным вскрывать их и
вдыхать их запах, то люди, которые отваживались на эту нелегальную торговлю,
рисковали не только занести заразу в собственную страну, но и в страны, с
которыми они вели торговлю этими товарами; а если учесть, сколько жизней
ставили они на карту подобными действиями, то ясно, что ни один порядочный
человек не согласился бы принимать в них участие.
Однако не могу сказать, чтобы эти люди причинили какой-то реальный
вред. Другое дело, когда речь шла о жителях нашей собственной страны; тут -
то ли через самих жителей Лондона, то ли вследствие торговли, благодаря
которой лондонцы общались с людьми со всех концов страны, и уж конечно со
всеми крупными городами, - только вследствие всего этого чума
распространилась не в одном Лондоне, но и по всему королевству {315},
затронув все крупные города, особенно те, что были связаны с торговлей
шерстью, и морские порты; так что в конце концов все значительные города
Англии были в той или иной степени затронуты заразой; то же можно сказать и
об Ирландии, хотя в значительно меньшей степени; как обстояли дела в
Шотландии, у меня не было случая выяснить {316}.
Следует отметить, что, в то время как чума свирепствовала в Лондоне,
внешние порты, как их называли, продолжали оживленную торговлю, особенно с
соседними странами и с колониями. Например, Колчестер {317}, Ярмут {318} и
Гулль {319} на северо-восточном побережье вывозили промышленные изделия в
Голландию и Гамбург {320} в течение нескольких месяцев после того, как
торговля с Лондоном полностью прервалась; точно так же Бристоль {321} и
Экзетер {322} через порт Плимут {323} вели торговлю с Испанией, отправляли
корабли на Канарские острова {324}, в Гвинею {325} и в Вест-Индию {326},
особенно же много торговали с Ирландией; но так как чума распространилась по
всей стране, после того как в августе-сентябре болезнь достигла в Лондоне
наивысшей точки, то все или большинство из этих городов рано или поздно
оказались зараженными; и тогда на торговлю было наложено эмбарго - то есть
она полностью прекратилась; об этом я еще поговорю ниже, в связи с
отечественной торговлей.
Одно, однако, нужно добавить: те, кто были в дальних странствиях
подолгу, или те, кто, выходя в рейс, ничего не знали о заразе или, во всяком
случае, о масштабах бедствия (а таких, уверяю вас, было немало), - смело
поднимались по реке и доставляли грузы, куда им было положено; и так
продолжалось все время, за исключением двух месяцев - августа и сентября, -
когда сила заразы была такова, особенно пониже Моста {327}, что ни один
корабль не решался в этот период проходить по реке, какие бы дела его ни
призывали. Но так как это продолжалось не долее нескольких недель, корабли,
возвращавшиеся домой, особенно те, чей груз не был скоропортящимся,
становились на какое-то время на якорь неподалеку от Заводи {Заводью
называется та часть реки, в которой пережидают корабли, когда они
возвращаются домой; она занимает обе стороны реки от Тауэра до
Какколдз-Пойнта и Лаймхауса. (Примеч. авт.)}, или посередине реки, и так аж
до самой речки Медуэй, причем некоторые заходили в нее; другие же вставали
на якорь в Норе и в Хоупе, пониже Грейвсэнда. Так что к концу октября здесь
собралась огромнейшая флотилия из возвращавшихся домой кораблей - такого их
скопления не видывали уже много лет.
Однако два вида торговли продолжали осуществляться по воде без перебоев
или почти без перебоев (и это весьма облегчало положение несчастных,
отчаявшихся горожан): я имею в виду закупку зерна с побережья и закупку угля
из Ньюкасла {328}.
Зерно привозили, во-первых, из Гулля и разных местечек на Хамбере
{329}, куда его свозили из Йоркшира {330} и Линкольншира. Кроме того,
торговля зерном велась из Линна в Норфолке {331}, из Уэллса и Бернэма, а
также из Ярмута (все они в том же графстве); третья ветка шла по реке Медуэй
и из Милтона, Фивершема {332}, Маргейта {333}, Сэндуича {334} и других
маленьких городков и портов вдоль Кентского побережья и Эссекса.
Прекрасно также шла торговля зерном, маслом и сыром с побережьем
Саффолка: {335} корабли оттуда прибывали в местечко, которое и поныне
зовется Медвежий Ключ, и оттуда обильно снабжали город зерном, когда не
приходил сухопутный транспорт или когда селяне не хотели везти свои продукты
в город.
Все это происходило в значительной степени благодаря благоразумию и
предусмотрительности лорд-мэра, который, заботливо охраняя владельцев судов
и команду от опасности заражения, наказал выгружать зерно в любое время
суток (хотя нельзя сказать, чтобы этим злоупотребляли) и требовал от
торговцев зерном, чтобы те немедленно разгружали корабли, дабы свести до
минимума необходимость покидать их и сходить на берег; деньги же приносили
прямо на палубу и опускали в посудину с уксусом.
Вторым необходимым предметом торговли был уголь из Ньюкасла-на-Тайне;
без него город бы бедствовал: ведь огонь жгли не только на улицах, но и в
частных домах, даже в продолжении всего лета, в самую большую жару, - и
делалось все это по совету врачей. Правда, некоторые противились тому,
считая, что прогревание домов и спален способствует распространению болезни,
фермент которой и без того горячит кровь: ведь известно, что мор нарастает в
жаркое время и стихает в холодное; соответственно, они утверждали, что все
заразные болезни лишь ухудшаются от жары, потому что в жаркую погоду зараза
питается и набирает силу и, следовательно, быстрее распространяется.
Другие же говорили, что допускают, будто жаркий климат способствует
распространению заразы, так как знойный горячий воздух наполнен всякого рода
паразитами, он питает несметное количество ядовитых существ (они гнездятся в
нашей пище, в растениях и даже в самом нашем теле), они-то и являются
разносчиками заразы; кроме того, жаркий воздух, или жара, как обычно мы
выражаемся, расслабляет тело и изнуряет дух, открывает поры и делает нас
более беззащитными против инфекции, исходит ли она от вредоносных чумных
испарений или от чего-либо другого; но тепло от огня, особенно от жженого
угля, поддерживаемое в домах или рядом с домами, производит совершенно иное
действие; эта жара совсем иного рода, сильная и яростная, склонная не
питать, а поглощать и рассеивать все те вредоносные пары, которые жара
обычно скорее усиливает и сгущает, чем развеивает и уничтожает. Кроме того,
утверждалось, что серные и азотистые частицы, часто содержащиеся в угле
вместе с битумной основой, которая сгорает, помогают очистить и освежить
воздух, сделать его здоровым и безопасным для дыхания, после того как сгорят
ядовитые частицы, о которых уже говорилось выше.
Это последнее мнение было в то время более распространенным, и,
признаюсь, основания на то имелись; подтверждает его и опыт горожан: те
дома, где в комнатах постоянно поддерживался огонь, оставались совершенно
незараженными: прибавлю к этому и собственные наблюдения: я нашел, что
постоянный огонь в камине делал атмосферу нашего дома здоровой и приятной и
- я твердо уверен - делал такими же его обитателей, поддерживая наше
здоровье более, чем если бы мы не зажигали огня.
Но возвращаюсь к торговле углем. Торговля эта поддерживалась с великими
трудностями, особенно из-за войны с голландцами, которая шла в то время, так
как поначалу голландские каперы захватили немало наших кораблей,
перевозивших уголь; это сделало остальных более осмотрительными и заставило
их передвигаться целыми флотилиями. Однако вскоре не то каперы стали бояться
нападать на суда, не то хозяева - я имею в виду государство в целом - стали
этого бояться, что было весьма разумно, и запретили им на нас нападать из
страха заразиться чумой, - но, во всяком случае, торговля после этого пошла
бойчее.
По распоряжению лорд-мэра для безопасности торговцев с севера кораблям
разрешалось одновременно заходить в Заводь не более определенного
количества; лихтерам и другим судам, которыми располагали лесоторговцы и
торговцы углем, было приказано спускаться вниз по реке до Детфорда,
Гринвича, а то и ниже, и забирать уголь.
Другие привозили огромные грузы угля в те места, где корабль мог
подойти к берегу, такие как Гринвич, Блэкуолл {336} и другие, и ссыпали
уголь в огромные груды, как для продажи; его убирали уже после того, как
корабль уходил; и все это делалось для того, чтобы матросы не общались с
местными жителями, обитавшими у реки, и даже вообще не приближались к ним.
Но эти предосторожности не могли должным образом оградить угольщиков от
заразы; прежде всего, на кораблях умерло от нее немало людей, и - хуже того
- они занесли болезнь в Ипсуич, Ярмут, Ньюкасл-на-Тайне и другие места на
побережье, и там, особенно в Ньюкасле и Сандерленде, чума унесла много
жизней {337}.
Поддержание почти постоянного огня, о чем я говорил выше, требовало
огромного количества угля; это да еще одна-две задержки с поступлением
топлива, когда корабли не приходили то ли из-за встречного ветра, то ли
из-за действий противника, не помню точно, - сразу резко подняли цену на
уголь, вплоть до четырех фунтов за чолдрен {338}, но она вскоре упала, когда
корабли вновь стали приходить регулярно, и оставалась вполне приемлемой
вплоть до конца года.
Общественные костры на улицах, которые устраивались в связи с этим
бедствием, должны были обойтись городу не менее, чем в двести чолдренов угля
в неделю, и если бы они продержались, на них потратили бы большую сумму,
однако, поскольку они считались необходимыми, то средств на это не жалели;
но так как некоторые врачи резко воспротивились этому, костры продержались
не более четырех-пяти дней. Их приказали было жечь в следующих местах: {339}
у таможни, у Биллингсгейтских ворот {340}, у Куинзхитта {341}, у монастыря
Блэкфрайарз {342}, у ворот Брайдсуэлла {343}, на углу Леденхолл-стрит и
Грейс-Черч-стрит, у северных и южных ворот Королевской биржи, около
Гилдхолла, у ворот Блэкуэлл-холла, у дома лорд-мэра в приходе Сент-Хеленс
{344}, у западного входа в собор Св. Павла {345} и у дверей Боу-Черч {346}.
Не припомню, были ли костры у городских ворот, но один у подножия Моста
точно был, как раз рядом с Сент-Магнус-Черч {347}.
Знаю, что многие ворчали потом на эту меру и утверждали, что от костров
перемерло еще больше народу {348}, но убежден, что у тех, кто так говорил,
не было ни малейших доказательств их правоты, и я ни за что не поверю таким
утверждениям.
Остается сказать еще о состоянии торговли внутри страны в то ужасное
время, и, в частности, о состоянии промышленности и городской торговли. Вы
легко можете представить себе, что, как только начался мор, люди были
страшно напуганы, а вся торговля приостановлена, не считая торговли
продуктами питания и самым необходимым. Но и здесь, учитывая, сколько народу
бежало из города, как много людей свалила болезнь, не говоря уж о тех,
которые умерли, потребление снизилось на одну треть, если не вдвое по
сравнению с обычным.
Богу угодно было, чтобы год тот оказался урожайным на зерно и фрукты,
но травы было мало - а значит, и сена. Поэтому хлеб был дешев из-за обилия
зерна, а мясо дешево из-за нехватки травы, однако по той же причине масло и
сыр были дороги, а сено на рынке у Уайтчеппл-Бара продавали по четыре фунта
за лоуд {349}. Но это не отражалось на положении бедняков. Было неслыханное
обилие самых разнообразных ягод и фруктов: яблок, груш, слив, вишен,
винограда; и они становились тем дешевле, чем меньше оставалось народу;
однако бедняки ели их в слишком большом количестве, в результате - поносы,
рези в желудке, переедание и тому подобное, что часто способствовало
заражению чумой {350}.
Но вернемся к торговле. Во-первых, как только внешняя торговля
прекратилась или, во всяком случае, сильно затруднилась, тут же, конечно,
последовала остановка всех производств, связанных с вывозом товаров из
страны; и хотя иногда иностранные купцы настойчиво требовали товаров,
посылали их редко и мало, так как связь прекратилась и английские корабли,
как уже говорилось, не пропускали в порты.
Все это полностью остановило производство тех товаров, которые
предназначались для вывоза, и так было почти по всей Англии, за исключением
нескольких внешних портов, но и там вскоре прекратилась торговля, так как
чума добралась и туда. Но, хоть это распространилось и на всю страну, еще
страшнее было то, что все торговые сделки, связанные с товарами внутреннего
потребления, особенно те, что велись через Лондон, тут же перестали
заключаться, как только Сити прекратило свою торговую деятельность.
Самые разные ремесленники, торговцы, мастеровые и прочие остались, как
я уже говорил, без работы; и это привело к увольнению несметного числа
поденщиков и рабочих самых разных специальностей, так как торговля полностью
прекратилась, за исключением продажи тех вещей, которые были совершенно
необходимы.
Это привело к тому, что в Лондоне появилось множество и одиноких людей,
и целых семей (зависевших от заработка главы семейства), которые оказались
без каких-либо средств к существованию, и, повторяю, они крайне бедствовали;
однако, должен признать, Лондон может еще очень долго гордиться, пока жива
будет память об этом, тем, что он сумел при помощи благотворительности
поддержать многие тысячи людей, которые в противном случае были бы ввергнуты
в болезнь и отчаяние; так что можно смело сказать: никто там не умер с
голоду, во всяком случае из тех, о чьем положении стало известно магистрату.
Застой в торговле промышленными товарами в провинции привел бы простых
людей к гораздо большим бедствиям, если бы хозяева производств не старались
из последних сил и возможностей продолжать изготовление товаров, чтобы не
лишать людей работы; они были уверены, что, как только болезнь начнет
стихать, спрос на их продукцию быстро возрастет, настолько же сильно,
насколько он сейчас упал. Но из-за того, что так поступать могли только
богатые, другие же хозяева, победнее, не имели возможности это себе
позволить, торговля промышленными товарами по всей Англии сильно пострадала,
и бедняки по всей стране были весьма существенно ущемлены несчастьем,
постигшим один только Лондон.
Правда, другое несчастье, через год обрушившееся на столицу, возместило
им все с лихвой, таким образом, Лондон в результате первого несчастья
ослабил и разорил страну, а в результате второго, по-своему не менее
страшного, - обогатил и возместил потери; ведь несметное количество всякого
домашнего добра, нарядов, украшений и всего прочего, не считая целых складов
товаров и изделий, поступивших со всех концов страны, было поглощено
Лондонским пожаром через год после ужасной чумы. Просто не верится, до какой
степени это оживило торговлю во всем королевстве, чтоб возместить потери,
так что беда обернулась благом; все рабочие руки были заняты; в течение
нескольких лет их даже не хватало, чтобы насытить рынок и удовлетворить все
запросы. Иностранные рынки тоже нуждались в наших товарах, которые перестали
поступать туда из-за чумы, и это продолжалось до тех пор, пока не была вновь
разрешена свободная торговля; небывалый спрос внутри страны также помогал
быстрому сбыту любых товаров; так что во всей Англии никогда еще не было
столь оживленной торговли, как в первые семь лет после чумы и Лондонского
пожара.
Остается теперь сказать несколько слов о милосердном завершении этой
ужасной кары. В последнюю неделю сентября чума достигла своей критической
точки и стала ослабевать. Помню, как неделей раньше мой друг доктор Хитт,
зайдя навестить меня, утверждал, что ярость чумы через несколько дней начнет
слабеть; но, когда я увидел последнюю сводку той недели - самую высокую
смертность за весь год - а именно, 8297 умерших от всех болезней вместе
взятых, - я упрекнул его и поинтересовался, на чем основывал он свои
предположения. Однако, к моему удивлению, он сразу нашелся, что ответить.
- Судите сами, - сказал он, - по количеству больных и зараженных за
прошлую неделю должно было бы погибнуть не менее двадцати тысяч человек, а
не восемь, если б широко распространившаяся смертельная форма заразы была
так же сильна, как две недели назад; тогда чума убивала в два-три дня, а
теперь не менее, чем за восемь-десять, и тогда из пятерых выздоравливало не
более одного человека, тогда как теперь, по моим наблюдениям, умирает не
более двух из пяти. И запомните мои слова: следующая сводка будет меньше, а
выздоравливать будет больше народу, чем раньше; и хоть сейчас еще уйма
зараженных по всей стране и ежедневно заболевают новые и новые, однако
смертных исходов будет гораздо меньше, так как сила болезни начинает
слабеть. - И он добавил, что надеется, более того, даже уверен: болезнь
миновала критическую точку и теперь пошла на спад.
Так оно и оказалось: на следующей неделе - это была, как я уже говорил,
последняя неделя сентября, - количество смертей в сводке уменьшилось почти
на две тысячи.
Правда, чума все еще свирепствовала - в очередной сводке значилось 6460
умерших, а в следующей за ней - 5720; но утверждения моего друга оказались
верными, и люди выздоравливали чаще и быстрее, чем раньше; а не будь этого -
каково было бы положение Лондона? Ведь, по подсчетам моего друга, не менее
шестидесяти тысяч человек было в то время заражено; из них, как уже
говорилось, умерло 20 477 человек, а сорок тысяч выздоровело; тогда как,
если бы болезнь развивалась по-прежнему, не менее пятидесяти тысяч наверное
умерло и еще столько же заразилось, так что, похоже, заболел бы весь город,
и ни у кого не было бы надежды на спасение.
Особенно же ясна правота моего друга стала через несколько недель, так
как смертность упала: на второй неделе октября она уменьшилась на 1843
человека, так что число погибших от чумы составило всего лишь 2664; а неделю
спустя - еще на 1413 человек; и в то же время было очевидно, что оставалось
еще много больных, - да что там, много больше, чем раньше, да и немало людей
все еще заражалось, как я говорил, - вот только сила болезни теперь была уж
не та.
И вот таково, как я мог с полной очевидностью наблюдать, опрометчивое
поведение людей в нашей стране - поступают ли так же во всех прочих уголках
земли, меня это сейчас не занимает, - что (подобно тому, как при первом
испуге в начале мора люди стали чураться друг друга, не заходили в чужие
дома и бежали из города в неописуемом и, на мой взгляд, необоснованном
ужасе) теперь, как только распространилось мнение, что болезнь стала не
столь прилипчивой, а в случае заражения - не столь фатальной, и когда
действительно столько больных ежедневно от нее выздоравливали, - люди
преисполнились совершенно неоправданной храбрости и вовсе перестали
заботиться о себе и избегать заразы.
Это мне представлялось крайне неразумным. Мой друг доктор Хитт считал,
что болезнь была не менее прилипчива, чем раньше, и не меньше людей теперь
подхватывало заразу; разница была только в том, что теперь заболевшие почти
не умирали; но я полагал, что многие все же умирали, да и болезнь сама по
себе была мучительной: язвы и бубоны болели невыносимо, а смертельный исход
полностью не исключался, хотя и был теперь не столь частым, как раньше;
всего этого, вместе взятого, включая очень длительное лечение,
омерзительность самой болезни и многое другое, было вполне достаточно, чтобы
удержать людей от общения с заболевшими и заставить их столь же тщательно
избегать заразы, как раньше.
Кроме того, была и еще причина - ее одной было бы достаточно, чтобы
бояться заразы, - это жуткие прижигания, к которым прибегали хирурги, чтобы
бубоны прорвались и вытекли, без чего опасность смертельного исхода
оставалась еще велика. Да и непереносимая боль в самих затвердениях, хотя
теперь и не доводила людей до безумств и умопомрачения, как раньше, о чем я
уже рассказывал, была все же очень мучительна; и больные, кому пришлось
перетерпеть ее, хоть и не расстались с жизнью, однако горько сетовали на
тех, кто убедил их, что теперь опасность миновала, и оплакивали собственные
легкомыслие и глупость, из-за которых они подверглись таким страданиям.
И нельзя сказать, что это безрассудное поведение влекло за собой лишь
болезнь: ведь многие выздоравливали, но многие и умирали; во всяком случае,
именно благодаря такому поведению количество похорон в еженедельных сводках
сократилось меньше, чем должно бы. Ведь как только это известие с быстротой
молнии разнеслось по всему городу, люди только об этом и думали, особенно
когда появилось первое существенное уменьшение числа умерших в еженедельных
сводках; однако мы убедились, что цифры в следующих двух сводках не
уменьшились в соответствующей пропорции; и причина этому, уверен, то, что
люди безответственно ринулись навстречу опасности, отбросили прежние
предосторожности и страхи и стали рассчитывать на то, что болезнь не
доберется до них, а коли и доберется, так они останутся живы.
Врачи, сколько могли, противились этим легкомысленным настроениям; они
издали предписание и распространили его по всему городу и его окрестностям,
в котором советовали людям, несмотря на ослабление болезни, продолжать
беречься по-прежнему, соблюдая все предосторожности повседневного поведения;
врачи пугали опасностью новой вспышки болезни по всему городу, которая может
оказаться даже более фатальной, чем все предшествующие испытания. Все это
сопровождалось подробными доводами и пояснениями, подтверждающими их
правоту, но повторять все это здесь было бы слишком долго.
Однако принятые меры ни к чему не приводили: осмелевшие люди так
обезумели от первого всплеска радости {351}, так поражены были значительным
сокращением смертности в недельных сводках, что стали совершенно
невосприимчивы к новым страхам, и никто бы не мог убедить их, что угроза
смерти еще не совсем миновала; говорить с ними было все равно, что бросать
слова на ветер; люди открывали лавки, разгуливали по улицам, возвращались к
своим занятиям {352} и заговаривали с каждым, кто им попадался - и по делу,
и без дела, - даже не спрашивая собеседника о его самочувствии, более того,
даже понимая, что им может угрожать опасность, так как знали, что собеседник
их не совсем здоров.
Это безрассудное, опрометчивое поведение стоило жизни многим из тех,
кто с величайшей осторожностью и предусмотрительностью запирался в домах,
отгораживаясь от всего человечества, и, таким образом, с Божьей помощью,
благополучно пережил самый разгар заразы.
Глупое и легкомысленное поведение, о котором я уже говорил, зашло столь
далеко, что священники вынуждены были в конце концов обратить на него
внимание паствы и пояснить его неразумность и опасность; и это немного
подействовало: люди стали осмотрительнее. Но было и еще одно поветрие,
остановить которое не могли и священники: ведь как только первые слухи
расползлись по стране и достигли сельских местностей, они возымели то же
действие: людям так надоело жить вдали от Лондона, им так хотелось обратно,
так не терпелось вернуться домой, что они, отбросив и страх и
предусмотрительность, потянулись в Лондон {353} и стали разгуливать по
улицам, будто опасность миновала вовсе. И тем поразительнее было их
поведение, что, согласно сводкам, все еще умирало по 1000-1800 человек в
неделю.
Вследствие такого поведения людей количество умерших за первую неделю
ноября вновь подскочило на 400 человек: и если верить врачам, то за ту же
неделю заболело не менее трех тысяч человек, большинство из которых были
вновь прибывшие.
Некий Джон Кок, цирюльник с Сент-Мартинз-ле-Гранд {354}, - прекрасный
тому пример, я хочу сказать, пример опрометчивости поспешных возвращений,
лишь только чума начала спадать. Этот самый Джон Кок покинул город вместе с
семьей, запер дом и, подобно многим другим, перебрался в сельскую местность;
обнаружив, что в ноябре зараза уменьшилась до такой степени, что за неделю
погибло лишь 905 человек от всех болезней вместе взятых, он отважился вновь
вернуться домой. Семья его состояла из десятерых: он, жена, пятеро детей,
двое учеников и служанка. Не прошло и недели после его возвращения - а он
сразу вновь открыл свою цирюльню, - как семейство его посетила болезнь и за
пять дней скосила всех: хозяина, его жену, детей, учеников, только служанка
уцелела.
Но к большинству Господь оказался милостивее, чем можно было бы
ожидать: ведь ярость болезни, как я уже говорил, была позади, зараза
отбушевала, да и зима приближалась: воздух стал чистый, холодный, начались
заморозки; морозы усилились, большинство заболевших поправлялось, и здоровье
стало вновь возвращаться в город; правда, даже в декабре были повторные
вспышки болезни, и цифры в сводках подскочили почти на целую сотню, но они
снова упали, и постепенно все стало возвращаться в свое обычное русло.
Удивительно было наблюдать, как быстро город вновь стал многолюдным, так что
приезжий и не ощутил бы потерь. Не наблюдалось и недостатка в жильцах:
пустующих домов почти не было, а снять в аренду те, что еще оставались
незанятыми, оказалось много охотников.
Хотелось бы мне сказать: как изменилось лицо города, так изменились и
нравы его обитателей {335}. Не сомневаюсь, что многие сохранили чувство
живейшей признательности за спасение и сердечной благодарности Всевышнему,
дланью Своей защитившему их в это страшное время. Было бы жестоко судить
иначе о столь многолюдном городе, жители которого проявили немало набожности
в период испытания; но все это можно было обнаружить лишь в отдельных домах,
лишь на некоторых лицах; в целом же нельзя не признать: поведение людей было
таким же, как раньше, и никакой разницы, по сути, не было видно.
Некоторые утверждали, что стало даже хуже; что именно с этих пор люди
нравственно деградировали; что они, ожесточенные пережитой опасностью,
подобно морякам, пережившим шторм, стали более озлобленными и упрямыми,
более наглыми и закоснелыми в своих пороках и беспутствах, чем раньше; но я
бы не стал и этого утверждать. Понадобился бы рассказ немалой длины, чтобы
наложить во всех подробностях медленное восстановление жизни города и
возвращение ее в обычное русло.
Теперь некоторые другие районы Англии были заражены не менее, чем
раньше Лондон; подверглись испытанию Норич {356}, Питерборо {357}, Линкольн
{358}, Колчестер и другие места; лондонский магистрат принялся было
вырабатывать правила общения с этими городами. Однако мы не могли запретить
их жителям приезжать в Лондон: ведь нельзя было проверять каждого отдельного
человека; так что после долгих обсуждений лорд-мэр и Совет олдерменов
махнули на это рукой. Все, что они могли, - это посоветовать горожанам не
принимать у себя и вообще не общаться с людьми, прибывшими из тех зараженных
мест.
Но все уговоры пропадали втуне: жители Лондона были так уверены, что
отделались от чумы, что никакие увещания на них не действовали; они всецело
полагались на то, что воздух в городе снова стал здоровым, считая, что сам
этот воздух, подобно больному оспой, раз переболев, уже не восприимчив к
заразе. Это вновь возродило убеждение, что зараза гнездилась в воздухе и
вообще не передавалась от заболевших к здоровым; и так сильно эта выдумка
воздействовала на людей, что они без разбору стали общаться друг с другом, -
и здоровые и больные. Даже магометане, одержимые идеей предопределения, не
верящие в заразу и придерживающиеся принципа "будь что будет", не могли
здесь сравниться с лондонцами в упрямстве и тупости; совершенно здоровые
люди, приехавшие в Сити из, как мы выражались, не затронутой болезнью
местности, с легкостью входили в дома, в спальни и даже прямо ложились в
постель вместе с больными, еще не окончательно выздоровевшими после чумы.
Некоторые из таких смельчаков поплатились жизнью за свою удаль;
несметное число заболело, и у врачей снова было работы по горло, с той лишь
разницей, что теперь большее число их пациентов выздоравливало; я хочу
сказать, что, как правило, они выздоравливали, но, несомненно, теперь, когда
за неделю умирало не больше 1000-1200 человек, зараженных и больных было
больше, чем когда умирало по пять-шесть тысяч в неделю, так небрежно вели
себя люди в столь серьезном и опасном для здоровья деле, и настолько
неспособны были они внимать советам тех, кто предупреждал их для их же
блага.
Когда люди начали вот так возвращаться в столицу, они с удивлением
обнаружили, что некоторые семьи начисто скошены болезнью, до такой степени,
что на их расспросы об этих людях никто даже не мог их припомнить,
невозможно было также найти ни одной из принадлежавших им вещей: в подобных
случаях все, что оставалось, бывало либо присвоено, либо похищено, но, так
или иначе, все пропадало.
Говорили, что такие бесхозные пожитки переходили в собственность короля
- всеобщего наследника; в связи с чем мы слыхали, и полагаю, что это в
какой-то мере соответствовало действительности, будто король передал все это
как "посланное Богом" {359} в распоряжение лондонского лорд-мэра и Совета
олдерменов, дабы раздать на нужды бедняков, коих было великое множество. И
надо заметить, что, хотя людей, нуждающихся в помощи, в облегчении их
положения, доведенных до отчаяния в то ужасное время было значительно
больше, чем сейчас, когда все уже позади, однако положение бедняков теперь
хуже, чем тогда, ибо все источники благотворительности сейчас прикрыты. Люди
считают, что главной причины для пожертвований более нет; и вот оскудела
рука дающего, в то время как отдельные случаи настоятельно требуют
сострадания и положение бедняков все еще остается крайне тяжелым.
Хотя болезнь в городе почти что прошла, однако иноземная торговля не
возобновилась, и иностранцы еще долгое время не допускали наши корабли в
свои порты. Что касается Голландии, то недоразумения между нею и нашим
двором привели к войне еще год назад, так что торговля между нею и нами
полностью прекратилась; а Испания, Португалия, Италия и Берберия {360}, а
также Гамбург и все порты Балтики были до такой степени напуганы чумой, что
не возобновляли с нами торговли еще долгие месяцы.
Так как во время чумы гибла, как я уже говорил, масса народа, многим,
если не всем, приходам пришлось устраивать в этот период новые кладбища,
помимо того, в Банхилл-Филдс, о котором я упоминал, некоторые из них
продолжают использоваться и сохранились до сего дня. Другие же были
заброшены и стали застраиваться или использоваться для других нужд
(правомерность чего вызывает у меня некоторые сомнения); так что тела были
осквернены, потревожены, заново вырыты и переброшены, как сор или навоз, в
другие места, причем у некоторых даже плоть не успела истлеть. Назову
некоторые из мест, где во время чумы были кладбища.
1. Клочок земли повыше Госуэлл-стрит, неподалеку от Маунт-Милл, тут
сохранились остатки старой городской стены; хоронили здесь многих, без
разбору, из приходов Олдерсгейт, Кларкенуэлл и даже из Сити; на этой земле
был разбит сад с лечебными травами, а позднее она была застроена.
2. Кусочек земли как раз у Черной канавки, как ее тогда называли, в
конце Холлоуэй-Лейн в приходе Шордич; потом там был загон для свиней,
использовался он и для других хозяйственных нужд, но никогда более не служил
кладбищем.
3. Верхний конец Хэнд-Элли, у Бишопсгейт-стрит, в те времена там была
просто зеленая лужайка; хоронили здесь в основном обитателей Бишопсгейтского
прихода, хотя многие телеги из Сити тоже свозили сюда мертвецов, особенно из
прихода Сент-Олл-Холлоуз-он-де-Уолл {361}. Не могу, упоминая об этом месте,
сдержать чувство глубокого уныния. Сколько помню, два-три года спустя после
чумы эта земля стала собственностью сэра Роберта Клейтона {362}. Говорили,
насколько достоверно, судить не могу, что земля перешла в королевскую
собственность из-за отсутствия наследников, так как всех, имевших на нее
права, унесла чума, и что сэру Роберту Клейтону она была пожалована Карлом
II. Но каким бы путем она ни досталась ему, несомненно одно - земля, по его
распоряжению, была сдана внаем под застройку. Первый же дом, на ней
поставленный, был красивым зданием, стоящим и поныне фасадом на улицу,
точнее переулок, который называется теперь Хэнд-Элли, и, хотя это и
переулок, он, однако, не уже улицы. Дома в том же ряду, только севернее
первого дома, закладывались на том самом месте, где раньше хоронили
бедняков: и тела, когда землю раскопали под фундаменты, были вновь вырыты,
причем некоторые не успели даже истлеть, и трупы женщин можно было отличить
по длинным волосам; тут люди начали громко выражать свое возмущение,
некоторые высказали предположение, что это может угрожать новой вспышкой
заразы; тогда тела и отдельные кости, как только они попадались, стали
переносить в другой конец того же участка и сбрасывать в общую яму, которая
была вырыта специально для этой цели: это место и по сей день не застроено,
оно служит проходом к другому дому в верхнем конце Роуз-Элли, как раз
напротив молитвенного дома, который был построен много лет спустя; и земля
эта отгорожена от основного прохода, так что получился небольшой сквер;
здесь захоронено около двух тысяч тел, свезенных на погост погребальными
телегами за один тот год.
4. Помимо того, был еще участок земли в Мурфилдсе {363}, неподалеку от
улицы, теперь носящей название Олд-Бедлам; он, хотя и не весь, тоже
использовался для этих целей.
[N. В. Автор сего дневника, согласно его собственному пожеланию,
похоронен именно на этой земле {364}, так как там за несколько лет до него
была похоронена его сестра.]
5. Приход Степни, растянувшийся с востока на север аж до самого
приходского кладбища в Шордиче, тоже располагал участком земли для похорон,
как раз поблизости от вышеупомянутого кладбища; он так и остался незанятым
и, как мне представляется, со временем слился с Шорднчским кладбищем. В
Спиттлфилдсе было еще два других места захоронения - одно, где позднее была
воздвигнута часовня или молитвенный дом для нужд этого огромного прихода,
другое - на Петтикоут-Лейн.
Помимо этого в приходе Степни было еще не менее пяти мест,
использовавшихся в то время под захоронения: одно в Шэдуэлле, где теперь
приходская церковь Св. Павла; {365} другое в Уоппинге, где теперь приходская
церковь Св. Иоанна; тогда обе эти церкви не назывались приходскими и
принадлежали приходу Степни.
Я мог бы назвать и множество других мест, но перечислил только те, о
которых знал все досконально; и упомянуть их, полагаю, имело смысл. В целом
же можно сказать, что во время бедствия пришлось организовать новые места
захоронений почти во всех приходах, за исключением Сити, чтобы похоронить
такую уйму народу за столь короткий период времени; но почему нельзя было
сделать так, чтобы эти места так и оставались кладбищами и не тревожить прах
усопших, этого я объяснить не могу, и дальнейших действий, признаюсь, не
одобряю. Хотя и не знаю, кто за них в ответе.
Следует отметить, что квакеры имели в то время собственное кладбище
{366}, где они хоронят и поныне; была у них и собственная погребальная
телега, чтобы доставлять на погост из домов тела умерших; знаменитый Соломон
Игл, который, как я уже говорил, предрекал чуму как кару и бегал по городу
нагишом, убеждая людей, что чума послана им за грехи, первым схоронил жену,
умершую сразу же после начала мора, - ее одной из первых свезли в той телеге
на новое кладбище квакеров.
Я мог бы загромоздить свой рассказ еще многими любопытными сообщениями
о том, что происходило во время мора, особенно о сношениях между лорд-мэром
и королевским двором, находившимся в то время в Оксфорде, о распоряжениях,
которые иногда поступали от правительства, относительно поведения в той
критической ситуации. Но в действительности двор так мало уделял всему этому
внимания, а распоряжения его были столь несущественны, что не имеет смысла
приводить их здесь; исключение составляли установление месячного поста и
передача королевских благотворительных пожертвований на бедняков, о которых
я вам уже говорил.
Велико было общественное возмущение теми врачами, которые бросили своих
пациентов на время бедствия; теперь, когда они вернулись в город, никто не
хотел их нанимать. Называли их дезертирами, а на двери дома им нередко
вешали надпись: "Здесь доктор ищет работы"; так что некоторые из них
вынуждены были на время остаться без практики, другие же поменяли место
жительства и обосновались в тех частях города, где их никто не знал. То же
происходило и со священниками, по отношению к которым паства вела себя
оскорбительно - писала куплеты и всяческие скандальные вещи, вывешивала на
двери церкви надпись: "Здесь священник ищет работы", а иногда: "Кафедра
сдается внаем" {367}, что было еще хуже.
К величайшему нашему несчастью, по мере того как чума уходила, не ушел
с нею вместе дух ожесточенности и раздора, злословия и попреков, который и
ранее был страшным возмутителем спокойствия в народе. Говорили, что это
последыши старой вражды, которая совсем недавно ввергла всех нас в кровавые
беспорядки {368}. Но так как недавний Закон об освобождении от уголовной
ответственности {369} притушил ссору, правительство рекомендовало всему
народу при любых обстоятельствах соблюдать мир и согласие.
Но это было невыполнимо; и особенно теперь, когда чума прошла; а ведь
тот, кто видел во время мора, в каком положении находились люди, как они
заботились друг о друге и обещали проявлять больше благорасположения в
будущем и не возвращаться к взаимным упрекам, полагаю, всякий, кто все это
видел, подумал бы, что теперь во взаимоотношениях людей возобладает новый
дух. Но, повторяю, это было невыполнимо. Вражда осталась; Высокая церковь и
пресвитериане были неумолимы. Как только зараза прошла. отстраненные
священники-диссиденты, занимавшие опустевшие кафедры в церквах, должны были
вновь уйти от дел; они, собственно, ничего другого и не ожидали, но что на
них немедленно набросятся и будут угрожать им законами против
нонконформистов {370}, что те самые люди, которые слушали их проповеди, пока
были больны, стали преследовать их, как только выздоровели, - это даже нам,
представителям Высокой церкви, казалось очень жестоким, и одобрить этого мы
никак не могли.
Но таково было поведение правительства, и мы не в силах были ему
препятствовать; нам оставалось только сказать, что это не наших рук дело и
отвечать мы за это не можем.
С другой стороны, диссиденты упрекали тех представителей Высокой
церкви, которые покинули город и, уклонившись от исполнения своих
обязанностей, бросили людей в опасности тогда, когда те более всего
нуждались в утешении и поддержке; этого мы никак не можем одобрить, потому
что разные люди по-разному проявляют свою веру, да и отвага не у всех
одинаковая, а Священное Писание повелевает нам судить людей снисходительно и
благосклонно.
Чума - самый настоящий враг, и в его распоряжении такие ужасы, которым
не каждый готов противиться, не каждый способен вынести все эти кошмары.
Спору нет, большинство церковнослужителей, у кого была такая возможность,
бежали из города, но правда и то, что очень многие остались и пали жертвами,
исполняя свой долг.
Верно и то, что немало отстраненных от службы священников-диссидентов
осталось в городе, их мужество должно быть признано и оценено по заслугам, -
но таких было не большинство; нельзя утверждать, будто все диссиденты
остались и ни один не покинул города, как неверно было бы утверждать про
представителей Высокой церкви, будто все они уехали. Надо учесть и то, что
многие уехавшие оставили вместо себя викариев, которые должны были
отправлять службу и, по возможности, навещать бедных; так что
снисходительность следовало проявлять с обеих сторон и помнить, что такого
страшного времени, как в 1665 году, не бывало еще в истории и что не у всех
достает храбрости держаться на высоте в таких обстоятельствах. Поэтому я
никого не осуждал, а скорее старался рассказывать о мужестве и религиозном
рвении и тех и других - всех, кто рисковал собственной жизнью, поддерживая
несчастных в их горестях, - и не поминать тех, кто не сумели исполнить свой
долг, к какой бы церкви они ни принадлежали. И советую всем добрым и
сердобольным людям обернуться назад и поразмыслить хорошенько над ужасами
того времени; те, кто это сделает, поймут, что нужна была недюжинная сила,
чтобы все это вынести. И это не то, что скакать во главе отряда или
атаковать неприятеля на поле боя, - это все равно, что атаковать саму Смерть
на бледном ее коне; {371} оставаться - значило умереть, и именно так на это
и смотрели, особенно если судить по ситуации, которая сложилась к концу
августа - началу сентября; и у людей были все основания полагать, что так
пойдет и дальше; ведь никто не ожидал и не верил, что болезнь так резко
пойдет на спад {372} и цифры опустятся до двух тысяч в неделю в то время,
как всем известно было, какое огромное количество больных скопилось в
городе; и именно тогда многие из тех, кто до того оставался в Лондоне,
покинули его.
А кроме того, если Господь даровал некоторым большую силу, чем другим,
то для того ли, чтобы они похвалялись собственной выносливостью да еще
порицали тех, кому не дано было этого дара и поддержки Господней? Или для
того, чтобы они пребывали в смиренной благодарности за то, что именно они, а
не братья их, оказались избранными?
Думаю, надо отдать должное всем тем, не важно, священникам или светским
лицам: врачам, хирургам, аптекарям, служащим магистрата и любым другим
чиновникам, словом, всем тем, кто приносил пользу по мере сил, кто рисковал
жизнью, исполняя свой долг, особенно же тем, кто оставался в городе до
конца: ведь многие из них не только рисковали жизнью, но и расстались с нею
за время этого бедствия {373}.
Однажды я попытался составить список всех погибших, - я имею в виду
список по профессиям и роду занятий, - погибших, как я выразился, при
исполнении служебных обязанностей; но частному лицу невозможно здесь
ручаться за точность деталей. Помню только, что в Сити и прилегающих к нему
слободах к началу сентября умерло шестнадцать священников, два олдермена,
пять врачей, тринадцать хирургов; но, так как именно к этому времени начался
самый разгул болезни, то список, конечно, неполный. Что же касается низших
чинов, то, полагаю, только в Степни и Уайтчепле умерло 46 констеблей и
городских голов {374}, но я не смог продолжить свои подсчеты: болезнь так
разбушевалась в сентябре, что стало не до подсчетов. Люди умирали без числа.
В сводке могли указать семь тысяч, могли восемь, а могли и все что угодно:
очевидно, что люди мерли как мухи, и хоронили их скопом, без всяких
подсчетов. И если можно доверять тем, кто чаще, чем я, выходили на улицу,
больше общались с посторонними (хотя и я вел вовсе не замкнутую жизнь для
человека, который удалился от дел), повторяю, если можно им доверять, то в
те три первые недели сентября хоронили почти по двадцать тысяч в неделю.
Однако другие оспаривают достоверность таких утверждений {375}, так что я
все же предпочитаю придерживаться официальных данных; но и семи-восьми тысяч
в неделю достаточно, чтобы показать все ужасы тех времен, о которых я
говорил; и к своему собственному удовлетворению, а также, надеюсь, и к
вящему удовольствию читателя, могу сообщить: все, что здесь написано, если и
расходится с правдой, так в сторону приуменьшения, а не приувеличения.
По всем этим причинам, повторяю, хотелось бы мне, чтобы теперь, когда
мы оправились от беды, поведение наше стало бы более сердобольным и
благожелательным в память бед минувших, и не столь кичливым из-за того, что
мы оставались в городе: ведь не все те, кто бежал от длани Господней, были
трусами, как и не все, кто остались, - такими уж храбрецами: многими двигали
невежество или неверие в карающую десницу Создателя, и это преступное
безрассудство, а вовсе не истинная храбрость.
Не могу не сказать, что государственные чиновники - констебли, их
помощники, люди шерифов и лорд-мэра, а также приходские чиновники, в чьи
обязанности входила забота о бедных, - в целом исполняли свой долг с не
меньшим мужеством, чем все остальные, а то и с большим: ведь и работа их
была сопряжена с огромным риском, вела к большему общению с бедняками, среди
которых попадалось очень много больных и где болезнь протекала в особенно
жутких условиях. И, надо добавить, очень многие из них умерли, да иначе и
быть не могло.
Я еще ни словом не обмолвился о том, какие лекарства и
предохранительные средства использовали мы в то ужасное время, - я имею в
виду тех, кто, подобно мне, часто выходил из дому и разгуливал по улицам;
многое говорилось об этом в книгах и объявлениях наших докторов-шарлатанов -
о них я уже достаточно рассказывал. Можно, однако, добавить, что Коллегия
врачей ежедневно публиковала рекомендации, которые врачи учитывали в
собственной практике {376}, но так как все это было в печати, я не стану
приводить их здесь.
Об одном все же не могу умолчать: о судьбе одного из таких шарлатанов,
который опубликовал объявление, что нашел самое надежное предохранительное
средство от чумы, и тот, кто имеет его при себе, ни за что не подхватит
заразу и не заболеет. И этот самый человек, который, надо полагать, не
выходил из дома, не положив это изумительное средство себе в карман, однако,
заболел и через два-три дня умер {377}.
Я не принадлежу к тем, кто ненавидит или презирает врачей; я не раз уже
говорил с уважением о советах моего друга доктора Хитта, хотя, должен
сказать, воспользовался я немногими из них, по сути, почти ничем, если не
считать, что всегда держал наготове, как уже говорилось, какое-нибудь
вещество с резким запахом на случай, если придется дышать какими-нибудь
нездоровыми миазмами либо подойти слишком близко к погосту или трупу.
Не прибегал я и к тому способу, к которому тогда обращались многие: все
время бодрить дух при помощи горячительных напитков и вина; помнится, один
ученый доктор так пристрастился к этому лечебному средству, что не смог
отказаться от него, когда поветрие кончилось, да так и остался до конца дней
своих горьким пьяницей.
Вспоминаю, как мой друг доктор не раз говорил, что существует
определенный круг лекарств и препаратов явно действенных и полезных в случае
заразы; из них, или с их помощью, врачи могли делать бесконечно
разнообразные снадобья, подобно тому как звонари могут составлять несколько
сот разнообразных мелодий, меняя звук и порядок всего шести колоколов, - и
все эти снадобья действительно полезны.
- Поэтому, - говорил доктор Хитт, - я не удивляюсь, что такое множество
снадобий предлагается во время теперешнего бедствия и каждый врач
предписывает или приготовляет что-то свое, согласно собственному разумению и
опыту. Но если, - продолжал он, - изучить разнообразные рецепты всех
лондонских врачей, то окажется, что они состоят примерно из одного и того
же, с небольшими отклонениями, зависящими от фантазии того или иного врача;
таким образом, человек сам, исходя из особенностей своего организма, из
образа жизни и обстоятельств заражения, может выбрать себе снадобье из
обычных лекарств и препаратов. Только те рекомендуют одно как самое главное,
другие - другое. Одни считают, что противочумные пилюли - самое лучшее
средство, другие, что "венецианского сиропа" {378} достаточно, чтобы
противиться заразе, а я согласен и с теми, и с другими, только последнее
средство хорошо принимать заранее, чтобы предупредить болезнь, а первое -
если уже заразился, чтобы изгнать ее из себя.
Согласно этому утверждению, я несколько раз принимал "венецианский
сироп" и, сильно пропотев, считал себя настолько закаленным, насколько это
возможно при помощи лекарств.
Что касается знахарей и шарлатанов, которыми город просто кишел перед
чумой, то о них что-то было не слышно; и я с немалым удивлением заметил
потом уже, что в течение двух лет после бедствия в городе о них не было ни
слуху ни духу. Некоторые воображали, что они все до единого погибли от
заразы, и полагали это знаком Божьей кары за то, что они ради ничтожной
наживы ввергли стольких бедняков в бездну отчаяния; но я никогда не заходил
так далеко в своих предположениях. Что перемерло их много, так это точно
(некоторых из них я знал лично), но что чума унесла их всех, вызывает
большие сомнения. Скорее, думаю, они перебрались в провинцию и принялись за
свое ремесло среди сельских жителей, напуганных приближением чумы.
Одно, во всяком случае, верно - ни один из этой братии не появлялся в
Лондоне и его окрестностях еще долгое время после окончания мора. Правда,
несколько докторов опубликовали рецепты, рекомендуя различные препараты для,
как они выражались, оздоровления тела после чумы, особенно необходимые тем,
кто прошел испытание и излечился; однако, по известному мне мнению самых
выдающихся врачей того времени, чума уже сама по себе была таким
очистительным средством, что те, кто устоял, не нуждался ни в каких других
очищениях: гнойные болячки, волдыри и прочее, которые прорывались или
вскрывались по указанию врачей, уже достаточно очистили организм, так что
все остальные болезни и их источники тем самым устранялись; и так как врачи
повсеместно распространяли это мнение, то шарлатаны со своими снадобьями
мало чего добились.
Правда, несколько раз после ослабления чумы все же начиналась паника;
организовывалась ли она умышленно, как считали некоторые, с целью напугать
население и посеять хаос, не могу точно сказать; однако иногда нам
предсказывали, что чума возвратится в такое-то время; знаменитый Соломон
Игл, квакер, разгуливавший нагишом, о котором я уже говорил, ежедневно
предрекал дурные вести; кое-кто еще также уверял, что Лондон понес неполную
кару и что его и в дальнейшем ждут всяческие язвы и удары. Если бы они
остановились на этих своих утверждениях или, наоборот, сделали более
конкретное предсказание и предупредили бы, что через год Сити будет
уничтожен пожаром, тогда бы действительно, после того как пожар наступил,
никто бы не стал осуждать нас за необычайное уважение к их пророческому
рвению; во всяком случае, тогда нам следовало бы более удивляться им и
серьезнее расспрашивать о смысле их пророчеств, раз они обладают даром
предвидения. Но так как они по большей части пугали нас новой вспышкой чумы,
то не следовало особенно к ним прислушиваться; однако из-за всех этих
непрестанных слухов мы все время пребывали в страхе; и стоило кому-либо
внезапно умереть или участиться случаям заболевания сыпным тифом, не говоря
уж о том, если число умерших от чумы возрастало (ведь до конца года это
число колебалось от двухсот до трехсот человек), - как мы тут же начинали
беспокоиться. Повторяю, в любом из этих случаев наши тревоги вновь
возвращались к нам.
Те, кто помнит Лондон, каким он был до пожара, должны помнить и то, что
не было тогда Ньюгейтского рынка, а посреди улицы, которая теперь называется
Надувной (ее название связано с мясниками, которые забивали и разделывали
там бараньи туши и имели, говорят, обыкновение надувать при помощи трубочек
мочевые пузыри, чтобы мясо казалось тучнее {379} и пышнее, за что их
наказывал лорд-мэр), повторяю, в конце этой улицы, по направлению к
Ньюгейтским воротам, стояли по обе стороны ряды для продажи мяса.
Вот в этих-то рядах двое покупателей, пришедших за мясом, упали
замертво, что дало основание слухам, будто мясо было все заражено;
утверждение это, хотя оно напугало людей и на два-три дня привело к
прекращению торговли, позднее оказалось совершенно несостоятельным. Однако
никто не может управлять страхом, когда он овладевает человеком {380}.
Но Богу угодно было посредством зимней погоды настолько восстановить
здоровую атмосферу в городе, что к следующему февралю мы могли утверждать,
что болезнь ушла; {381} и тогда нас стало не так уж легко напугать.
Все еще оставался важным вопрос - и он весьма волновал люден, - как
очистить дом и пожитки после посещения чумы и как сделать вновь обитаемыми
жилища, брошенные на время мора. Врачи предписывали огромное множество
курений и других препаратов - одни советовали то, другие - се, и, следуя им,
люди, по-моему, только зря входили в издержки; а те, кто был победнее и кому
приходилось лишь держать круглосуточно окна и двери открытыми настежь да
жечь в комнатах самородную серу, смолу, порох и тому подобное, достигали не
меньшего результата; да что там, те нетерпеливые люди, что поспешили,
несмотря на риск, вернуться домой, сочли, что дома и пожитки их в полном
порядке, и вообще почти никаких средств не применяли.
Однако люди предусмотрительные и осторожные, как правило, принимали
определенные меры: проветривали помещение, жгли в запертых комнатах ладан,
лавровый лист, канифоль, серу, а потом при помощи небольшого взрыва пороха
давали воздуху резко вырваться наружу; другие разводили в каминах сильный
огонь и поддерживали его несколько суток кряду, и днем и ночью; двое или
трое заодно уж пожелали поджечь и дома и так основательно очистили
помещение, что остались одни головешки; так, сгорели один дом в Рэтклиффе,
один - на Холборне и один - в Вестминстере; помимо этого еще два-три дома
было подожжено, но огонь, к счастью, удалось затушить, и дома уцелели; а
один слуга притащил столько пороху в хозяйский дом (это, кажется, было на
Темз-стрит {382}), чтобы очистить помещение от заразы, и распорядился им так
глупо, что у дома снесло часть крыши. Но еще не настало то время, когда
народу суждено было очищение огнем; ведь всего через девять месяцев весь
Сити превратился в груду пепла; и, по утверждению наших
философов-шарлатанов, именно тогда - и не ранее - чумные зародыши были
полностью уничтожены; утверждение это столь смехотворно, что нет нужды и
обсуждать его здесь: ведь если бы зародыши чумы можно было уничтожить лишь
огнем, то почему же она не разгорелась снова во всех домах пригородов и
слобод, в огромных приходах Степни, Уайтчепл, Олдгейт, Бишопсгейт, Шордич,
Крипплгейт и Сент-Джайлс, которые не затронул пожар и которые остались в том
же положении, что и до чумы, - а ведь в свое время именно в них чума
свирепствовала с особенной силой?
Но, оставляя все это в стороне, можно с уверенностью сказать: те, кто
особенно заботились о здоровье, непременно учитывали указания врачей,
производя, как они выражались, "сезонные работы по дому", и в связи с этим
истребляли великое множество дорогостоящих препаратов, благодаря чему не
только освежали собственные дома, но и наполняли воздух благодатными,
оздоровляющими запахами, которыми могли наслаждаться не только заплатившие
за это.
Однако, несмотря на все сказанное, богачи в отличие от бедняков,
возвращающихся в город весьма поспешно, не торопились с возвращением.
Деловые люди, правда, приехали, но многие не привозили назад своих семей
вплоть до весны, то есть до тех пор, пока не убедились, что чума не
возобновится.
Двор тоже вернулся вскоре после Рождества; но знать и дворяне, кроме
тех, кто был связан со двором и выполнял определенные обязанности, вернулись
позднее.
Должен сказать, что, несмотря на разгул чумы в Лондоне и некоторых
других местах, было совершенно очевидно, что она вовсе не затронула флот
{383}. И однако, было непросто у реки и даже на улицах города вербовать
людей во флот. Правда, я говорю о начале года, когда чума только началась и
еще не добралась до той части города, где обычно вербуют моряков. И хотя
война с голландцами не вызывала энтузиазма в народе в то время и люди
неохотно шли во флот, а многие жаловались, что их затащили силой {384},
однако для многих это насилие обернулось удачей, так как иначе вернее всего
их ожидала бы смерть во время общего бедствия; и, когда летняя служба
окончилась, хоть им и пришлось оплакивать потери в семьях, многие члены
которых к их возвращению были уже в могилах, - у них все же были причины для
благодарности за то, что они, хотя бы и против воли, находились вне
досягаемости заразы. В тот год у нас были горячие схватки с голландцами и
одно большое сражение {385}, которое мы выиграли, потеряв, однако, много
людей и несколько кораблей. Но, повторяю, чумы на флоте не было, и, когда
корабли встали на реке, самый страшный период был уже позади.
Хотелось бы мне заключить рассказ об этой печальной године каким-нибудь
особо интересным случаем из жизни; я разумею здесь пример благодарности
Господу, нашему защитнику, за то, что спас нас во время этого страшного
бедствия. Конечно же и обстоятельства спасения, и ужасный враг, от которого
мы были избавлены, требуют, чтобы благодарность эта была выражена
всенародно. Обстоятельства спасения, как я уже имел случай сказать, были
действительно замечательными, особенно же ужасное положение, в котором мы
все находились в тот момент, когда весь город с удивлением, радостью и
надеждой узнал о прекращении поветрия.
Это был не иначе как перст Божий, не иначе как Его всемогущая длань.
Ведь зараза не боялась никаких лекарств; смерть свирепствовала повсюду; и
продолжайся так еще несколько недель, во всем городе не осталось бы ни
единой живой души. Все потеряли надежду, сердца поддались унынию, страдания
довели людей до отчаяния, и смертный страх ясно читался на лицах всех
горожан.
И вот в этот самый момент, когда мы вполне могли бы сказать: "Тщетна
помощь человеческая" {386}, повторяю, в этот самый момент Богу угодно было,
ко всеобщему радостному изумлению, уменьшить ярость болезни, как бы саму по
себе; ее сила утишилась, и, хотя зараженных было несметное множество,
умирали теперь реже, и цифра в первой же недельной сводке уменьшилась на
1843 человека - разница и вправду огромная!
Невозможно описать перемену во внешности людей, как только в четверг
утром была опубликована недельная сводка. Еле скрываемое удивление и
радостные улыбки читались у всех на лицах. Те, кто еще вчера, завидев
встречных, переходили на другую сторону улицы, теперь пожимали друг другу
руки. Там, где улицы были достаточно узки, люди растворяли окна и окликали
соседей, справляясь, как те поживают и слыхали ли они добрую весть, что чума
спадает. Некоторые прохожие возвращались, заслышав их разговор, и
спрашивали: "Что за весть?", а узнав, что чума пошла на убыль и цифры в
сводках уменьшились почти на две тысячи, восклицали: "Слава Создателю!" - и
плакали от радости, говоря, что впервые слышат об этом; и такова была
радость людей, будто они заживо восстали на могил. Я мог бы долго
рассказывать о глупостях и безрассудствах, которые совершались в первом
порыве радости не реже, чем в первом порыве горя; {387} но это испортило бы
впечатление от рассказа.
Признаюсь, что незадолго перед этим я и сам пришел в крайне угнетенное
состояние; ведь колоссальное количество больных за последние две недели было
столь велико, не говоря уж об умерших, и таковы были повсеместные вопли и
стоны, что трезвомыслящий человек не мог теперь надеяться уцелеть; и так как
в округе, кроме моего, почти не осталось незараженных домов, то, если бы и
дальше пошло том же духе, у меня вскорости вообще не осталось бы соседей. И
правда, трудно представить, какие потери понес город за последние три
недели: ведь, если доверять лицу, чьи подсчеты я всегда считал
обоснованными, не менее тридцати тысяч погибло и сто тысяч заболело за эти
последние три недели; количество заболевших было просто поразительным, и
даже те, у кого хватало мужества стойко держаться в течение всего бедствия,
сейчас пали духом.
И вот, в самый разгар отчаяния, когда положение Лондона стало
действительно ужасно, Богу угодно было дланью Своею внезапно обезоружить
врага - жало лишилось яда. Это было столь удивительно, что даже врачи не
могли не изумляться {388}. Кого бы ни навещали они, видно было, что
состояние пациентов улучшилось: либо они хорошо пропотели, либо нарывы
прорвались, либо карбункулы рассосались и покраснение вокруг них побледнело,
либо жар уменьшился, либо невыносимая головная боль стихла, либо
обнаружились другие хорошие симптомы, так что через несколько дней все
выздоравливали; целые зараженные семьи, слегшие и уже пригласившие
священников молиться за них в ожидании смерти с часу на час, выздоравливали
и исцелялись, и при этом не умирал ни один из членов семьи.
И происходило это не потому, что было найдено какое-то новое лекарство,
или новый метод лечения, или новый способ операций, практикуемых врачами и
хирургами; происходило это с полной очевидностью по воле Того, кто в свое
время и наслал на нас как кару эту напасть; и пусть безбожная часть
человечества думает о моем утверждении, что ей заблагорассудится, но это не
просто религиозная экзальтация: в то время все были того же мнения, что и я.
Силы болезни были подорваны; ее ярость - исчерпана; и отчего бы это ни
произошло, какие бы естественные причины ни отыскивали философы, чтобы
объяснить это явление, как бы они ни трудились, стремясь уменьшить нашу
благодарность Создателю, - но те из врачей, в ком осталась хоть капля
религиозности, должны были признать, что причины здесь сверхъестественные,
что они выше человеческого разумения и никакому объяснению не поддаются.
Если я скажу, что это зримый знак всем нам, особенно же тем, кто
пережил ужас нарастания заразы, преисполниться благодарности, - то,
возможно, некоторые сочтут это теперь, когда все уже позади, ханжеской
набожностью, чтением проповеди вместо описания реальных событий; подумают,
что я становлюсь в позу учителя, а не простого наблюдателя; и это удерживает
меня от дальнейших рассуждений, сделать которые мне бы очень хотелось. Но
если из десяти излеченных прокаженных только один вернулся, чтобы принести
благодарность {389}, я бы хотел быть подобным этому единственному и
возблагодарить Создателя за свое спасение.
Не стану отрицать, в то время было много людей, по всей видимости
глубоко благодарных за избавление; было не слышно брани на устах, и даже у
тех, кто был не особенно глубоко потрясен. Но тогда впечатление было столь
сильным, что ему невозможно было противиться, - даже самые дурные люди
находились под этим впечатлением.
Обычным делом тогда было встречать на улицах совсем незнакомых людей,
которые вслух выражали свое изумление. Как-то раз, проходя по Олдгейт, где
толпы людей сновали туда-сюда, я увидал человека, пришедшего со стороны
Минериз, который, оглядевшись вокруг, простер руки и произнес:
- Бог мой! Какие перемены! Ведь неделю назад, когда я проходил здесь,
не было видно почти ни души!
Другой человек - я сам это слышал - добавил:
- Да, это удивительно! Будто во сне!
- Слава Создателю! - сказал третий. - И давайте возблагодарим Его, ибо
это Его рук дело - человеческая помощь и умение оказались бессильны.
И все трое были совершенно незнакомы друг с другом. Однако подобные
обмены репликами стали не редкостью на улицах в те дни; и, несмотря на
разнузданное поведение отдельных лиц, простой народ, проходя по улицам,
возносил благодарность Всевышнему за счастливое избавление.
Теперь, как я уже говорил, люди отбросили всякую осторожность, причем
сделали это даже слишком поспешно; действительно - мы не боялись уж больше
пройти мимо человека с забинтованной головой, или с обмотанной шеей, или
прихрамывающего из-за нарывов в паху, - а ведь от всего этого мы бежали как
от огня всего неделю назад. Теперь же улицы пестрели такими людьми, и, надо
отдать им должное, эти несчастные выздоравливающие создания, похоже, глубоко
прочувствовали свое неожиданное спасение; и я был бы очень к ним
несправедлив, не признай я, что многие испытывали самую горячую
благодарность. Но, к сожалению, о людях в целом справедливо будет сказать:
они подобны сынам Израиля - те, спасаясь от орд фараона, переправились через
Красное море, обернулись и, увидев, что египтяне гибнут в воде, "они пели
Ему хвалу, но вскоре позабыли дела Его" {390}.
Не буду продолжать долее. Меня сочтут придирчивым, а то и
несправедливым, если я стану еще предаваться этому неблагодарному занятию -
размышлениям о том, какова была причина людской черствости и возврата к тем
дурным нравам, свидетелем которых я столь часто бывал с той поры. А посему я
заканчиваю свою повесть об этой печальной године неуклюжим, но искренним
четверостишием собственного сочинения, которое я поместил в конце своего
дневника в тот самый год, как он был написан:
Ужасный мор был в Лондоне
В шестьдесят пятом году.
Унес он сотни тысяч душ -
Я ж пережил беду!
Г. Ф.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К. Н. Атарова
ВЫМЫСЕЛ ИЛИ ДОКУМЕНТ?
Удивительное, ни на что не похожее
сочинение - и роман, и исторический труд.
Вальтер Скотт
Все мы знаем Даниэля Дефо как автора знаменитого "Робинзона Крузо".
Однако он был одним из самых плодовитых и разносторонних сочинителей своего
времени. Список произведений Дефо по современным данным (ведь большинство
вещей он публиковал анонимно) перевалил за полтысячи названий. И, помимо
романов, среди них: сатирические памфлеты на злобу дня в прозе и в стихах,
жизнеописания всякого рода знаменитостей (включая уголовных преступников),
труды исторические (самые разнообразные - от "Истории войн Карла XII" до
"Отчета об истории и реальности привидений"), описания путешествий (реальных
- "по всему острову Великобритании" и вымышленных - "кругосветных") и
множество трактатов и эссе по экономике, коммерции, политике, богословию -
по вопросам глобальным и частным: от "Всеобщей истории торговли" до
"Надежного плана по немедленному предотвращению уличного воровства"...
Отнюдь не все из перечисленного здесь равноценно. Многое давно забыто и
представляет лишь историко-культурный интерес. Даже вторую, а тем более
третью книги, связанные с Робинзоном - "Дальнейшие приключения Робинзона
Крузо" и "Серьезные размышления Робинзона Крузо", - сейчас мало кто знает. И
не случайно - суд истории справедлив: они действительно уступают не только
его первенцу, но и многим другим романам.
Однако среди шедевров писателя и поныне издается в Англии (наряду с
такими романами, как "Робинзон", "Молль Флендерс", "Роксана") массовыми
тиражами в мягких обложках - верный признак читательской популярности -
"Дневник Чумного Года", книга, до настоящего времени не переводившаяся на
русский язык.
Но это не означает, что "Дневник" был вовсе не известен в России. В
числе свидетельств интереса к нему наших соотечественников есть и такой
знаменательный факт. Экземпляр "Дневника Чумного Года" находился в
библиотеке Пушкина {De Foe Daniel. The History of the Great Plague in London
with an Introduction by the Rev. H. Stebbing, M. A., Author of "Lives of
Italian Poets". London. S. a. [1722?]. См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А.
С. Пушкина. СПб., 1910. С. 219. (Репринтное издание, М., 1988.)}. И хотя в
нем были разрезаны страницы "Введения" и лишь небольшая часть авторского
текста (страницы 23-36), несомненно, что Пушкина должна была интересовать
эта тема в свете его собственных творческих замыслов; а сцена в таверне, где
повествователь встречается с "безбожной" компанией пирующих, цинично
насмехающихся над горожанами, спешащими в церковь, не может не вызвать в
памяти "Пира во время чумы", посвященного другой, более ранней лондонской
чумной эпидемии.
Почему Пушкин обращается к "Дневнику", можно предположить с достаточной
долей уверенности. А чем для самого Дефо оказалась столь притягательной
Великая лондонская чума 1665 года?
Наделенный тонким чутьем профессионального журналиста и газетчика, Дефо
всегда безошибочно выбирал актуальную тему для своих сочинений. Он писал о
путешествиях, дальних странах, необитаемых островах, когда вся Англия была
буквально одержима манией "первооткрывательства", когда на карте мира еще
кое-где значилось: "Пока еще не открытые места", когда книги о путешествиях
- реальных и вымышленных - пользовались широчайшим читательским спросом и
когда еще не забылась сенсационная история Александра Селькирка,
привезенного в Англию после четырехлетнего пребывания на необитаемом острове
Масс-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес. Именно с учетом, как мы бы теперь
выразились, общественного климата той поры и создавался "Робинзон Крузо".
В чем-то сходна и ситуация с "Дневником Чумного Года". В апреле 1720
года в Марселе началась эпидемия чумы и продолжалась не менее года, причем
свирепствовала так, что унесла около пятидесяти тысяч жизней. Марсель -
морской порт, а Англия - морская держава; и хотя от Марселя до английских
прибрежных городов путь неблизкий, известия о чуме (а о ней много писали в
газетах, в том числе и в изданиях, где сотрудничал Дефо {Так, в "Дейли пост"
появилось сообщение "Чума в Марселе", в "Эпплби" - заметки "Чума", "Чума в
Марселе", "Несчастья чумы"; весной 1721 года Дефо пишет о чуме в Тулоне,
несколько позднее - о чуме в Авиньоне, где сгорел госпиталь с чумными
больными.}) не могли не взволновать английское общество. Вспомнили 1665-й
год - год Великой лондонской чумы: тогда ее тоже занесли из-за моря, из
Голландии, где она бушевала перед этим в течение двух лет. Страсти
усугубились еще и тем, что правительство издало так называемый "Карантинный
закон", согласно которому король имел право запретить на срок до одного года
торговлю со странами, от которых могла исходить опасность заразы. В данном
случае наложили эмбарго на средиземноморские корабли. Это вызвало бурю
возмущения негоциантов, упрекавших правительство в паникерстве. Дошло до
того, что власти вынуждены были обратиться к влиятельному епископу Эдмунду
Гибсону с просьбой разъяснить народу опасность новой эпидемии.
Появилось немало брошюр, вызванных угрозой новой вспышки болезни. Среди
них наибольшей известностью пользовалась вышедшая в 1720 году и выдержавшая
множество переизданий брошюра доктора Ричарда Мида "Краткие рассуждения о
чумной заразе". Книга была написана по распоряжению монарха.
Не прошел мимо животрепещущей темы и Даниэль Дефо. В 1722 году он
выпускает сразу два сочинения, посвященных чуме: в феврале брошюру "Должные
предуготовления к чумной эпидемии для души и для тела", а в марте "Дневник
Чумного Года". Так что некоторые современные исследователи допускают, что и
Дефо, подобно доктору Миду, выполнял "социальный заказ" {См.: Plumb J. H.
Introduction to: Daniel Defoe. A Journal of the Plague Year. A Signet
Classics. Published by New American Library. N. Y., 1960. P. III.}.
Но какими бы внешними причинами ни было продиктовано обращение к этой
теме, она естественно вписывается в круг интересов Дефо, выступавшего в
своих романах не только как художник, но и как философ, социолог и даже
психолог-экспериментатор. Слово "экспериментатор" употреблено здесь не
случайно; ведь во всех своих романах автор как бы ставит один эксперимент,
только проводит его в разных условиях. А цель эксперимента - уяснить, какова
природа человека. Доброкачествен ли, грубо говоря, исходный материал? Что
его улучшает, что калечит? Какова "мера прочности" общественной
нравственности и чем обернется она, эта нравственность, в экстремальной
ситуации? Какими выходят человек и общество в целом из тяжелого испытания?
{Кстати, само английское слово "Visitation" (испытание, кара Господня),
употребляемое как синоним чумной эпидемии и использованное Дефо в названии
книги, как бы невольно возвращает сознание к этой глобальной теме.}
В "Робинзоне Крузо" предприимчивая, энергичная личность оказывается
предоставленной самой себе на необитаемом острове; она вырвана из
общественных связей, лишена благ цивилизации, но также и ее социальных
конфликтов.
В "Радостях и горестях Молль Флендерс" личность примерно того же типа,
но вынужденная существовать и действовать в обществе, с его подчас
безжалостными законами. Робинзону, пребывающему на острове, долгое время не
приходится делать выбор между добром и злом, нравственным и безнравственным
поступком, материальным преуспеянием и духовным падением. Молль постоянно
сталкивается с этой дилеммой.
Казалось бы, в "Дневнике" перед нами иная художественная структура:
здесь нет даже центрального героя - повествователь, скрывшийся под
таинственными инициалами "Г. Ф.", скорее хроникер, чем главный участник
событий. И все же Дефо - уже в новом аспекте - занят все той же излюбленной
своей поверкой человеческой природы в предельных обстоятельствах. Только
здесь "подопытным кроликом" выступает не отдельная личность - незадачливый
негоциант, занесенный бурей на необитаемый остров, или воровка Молль, или
куртизанка Роксана. В центре внимания - собирательный образ лондонцев,
причем и как скопище отдельных индивидов, и - что для Дефо особенно важно -
как слаженный социальный организм.
Дотошный и обстоятельный повествователь рассматривает во всевозможных
аспектах поведение отдельных личностей и представителей определенных
социальных групп, корпораций, сословий: городской бедноты, торговцев,
ремесленников, моряков, врачей, духовенства, чиновников, городских властей,
двора... Исследуются все градации человеческого страха и отчаяния:
первоначальная паника и повальное бегство из города; всеобщая
настороженность и подозрительность; покаянные настроения, охватившие
большинство горожан; отказ от мелочных предубеждений и религиозных
предрассудков перед лицом общего бедствия; отупение и равнодушие отчаяния во
время пика эпидемии, когда люди, изверившись, решают, что спасения нет, и
перестают беречься; наконец, бурное, а подчас и безрассудное проявление
радости при первых же известиях о спаде эпидемии, стоившее многим жизни
тогда, когда главная опасность уже миновала.
Как ведут себя люди перед лицом стихийного бедствия? Дефо интересует
уже не индивидуальная, а коллективная психология, психология толпы,
столкнувшейся с безликим и грозным врагом. А также способность государства
как социального аппарата бороться с общенародной бедой - это тоже не в
последнюю очередь занимает Дефо.
Немало волнует автора и вопрос, какими вышли люди из этого страшного
испытания: огрубели душевно от пережитых бедствий и понесенных утрат или же,
наоборот, стали более сострадательны к ближним, памятуя об эфемерности
земного существования и о незримом присутствии карающей длани Господней?
Однако все эти вопросы не столько декларативно обсуждаются, сколько
возникают невольно, порожденные рассказами о множестве людских судеб. Перед
читателем мелькает калейдоскоп сценок человеческого поведения - иногда это
лишь мимолетная зарисовка, иногда более обстоятельное изложение с
упоминанием предыстории персонажа и его дальнейшей судьбы, выходящей за
рамки Чумного Года. Мать, решившаяся ума после скоропостижной кончины
единственной дочери; лодочник, самоотверженно заботящийся о своей заболевшей
семье; молодой купец, сам принимающий роды у смертельно больной жены, потому
что в городе невозможно найти повитуху, и многие другие примеры бескорыстной
любви, благородства, самопожертвования... Но есть и лекари-шарлатаны,
бессовестно вымогающие у бедняков последние их сбережения на заведомо
бесполезные и даже вредоносные снадобья против чумы, и безжалостные сиделки,
измывающиеся над беспомощными больными, и незадачливые воришки, которые
промышляют в зараженных домах и подчас становятся жертвами собственной
алчности, и горожане, бегущие из запертых домов и оставляющие ближайших
родственников умирать в полном одиночестве... Словом, в небольшой по объему
книге перед читателем предстает как бы вся "человеческая комедия" -
множество судеб, множество жизненных и нравственных ситуаций...
Любопытно, что два века спустя тему сопротивления общества теперь уже
социальной заразе, на сходном материале, будет решать Альбер Камю, избравший
эпиграфом к своей "Чуме" строки из Дефо. По той же модели, впервые
предложенной в "Дневнике", - утверждают некоторые английские исследователи -
построены и романы Г. Уэллса, повествующие о сопротивлении общества
глобальному стихийному бедствию.
То, что "Чума" или "Война миров" - романы, хотя в каком-то смысле
"романы без героя", ни у кого не вызывает сомнения. С "Дневником Чумного
Года" сложнее: долгое время шли даже споры о том, художественное это
произведение или исторический очерк {Отразилось это и в произвольном
варьировании названия произведения в XVIII-XIX веках - в некоторых изданиях
ему давали название: "История лондонской чумы" или "История Великой
лондонской чумы 1665 года", что заранее задавало отношение к нему как к
историческому сочинению.}. Над этим вопросом размышлял еще Вальтер Скотт,
сказавший про "Дневник": "Удивительное, ни на что не похожее сочинение - и
роман, и исторический труд" {W. Scott on Defoe's Life and Works // Defoe.
The Critical Heritage. Lad.. 1972. P. 66.}.
Продолжаются эти дискуссии и в нашем столетии. Так, американский
исследователь Уотсон Николсон, автор фундаментального труда об
историко-литературных источниках "Дневника", пытался доказать, что перед
нами не художественное, а историческое сочинение на основании "той простой
истины, что в "Дневнике" нет ни одного существенного утверждения, которое не
было бы основано на историческом факте" {Nicholson W. The Historical Sources
of Defoe's Journal of the Plague Ycar. Boston, 1919. P. 3.}. Исследователь
исходил из спорной посылки, что роман должен опираться на вымысел.
Гораздо тоньше оценил эстетику Дефо Энтони Берджесс, известный
английский писатель и литературовед: "Его романы слишком совершенны, чтобы
быть похожими на романы; они воспринимаются как кусок реальной жизни.
Искусство слишком глубоко запрятано, чтобы быть похожим на искусство, и
поэтому искусство Дефо часто не принимают в расчет" {Burgess A. Introduction
to: D. Defoe. A Journal of the Plague Year. Penguin Books, 1976. P. 7.}.
Дефо и сам не стремился, чтобы его книги считали романами. В
предисловиях к "Робинзону Крузо" и "Молль Флендерс" он истово убеждал
читателя: перед ним не вымысел, а документ - подлинные мемуары. А для
"Дневника Чумного Года" и предисловия не понадобилось: даже современник Дефо
доктор Мид, автор "Кратких рассуждений о чумной заразе", воспринял "Дневник"
как подлинное историческое свидетельство времен Великой лондонской чумы.
Одна из главнейших черт повествовательной манеры Дефо - достоверность,
правдоподобие. О чем бы он ни писал, даже об опыте общения с привидениями,
он стремился к созданию эффекта максимального правдоподобия. После
публикации "Правдивого сообщения о появлении призрака некоей миссис Виль"
(1705) многие уверовали в возможность общения с потусторонним миром.
"Мемуары кавалера" (1720) - как и "Дневник Чумного Года", о чем говорилось
выше, - даже некоторые искушенные литераторы воспринимали как подлинный
исторический документ, созданный очевидцем событий.
В стремлении имитировать подлинность Дефо не оригинален: интерес к
факту, а не к вымыслу - характерная тенденция эпохи, переросшей рыцарские
романы и требовавшей повествований о себе самой. Угадывая эту тенденцию, еще
предшественница Дефо Афра Бен в предисловии к роману "Оруноко, или
Царственный раб" заверяла читателей: "Предлагая историю этого раба, я не
намерена занимать читателей похождениями вымышленного героя, жизнью и
судьбой которого фантазия распоряжается по воле поэта; и, рассказывая
правду, не собираюсь украшать ее происшествиями, за исключением тех, которые
действительно имели место..." Однако на деле ее роман полон самых
неправдоподобных совпадений и приключений. А вот Дефо удалось не просто
декларировать достоверность, но и создать ее иллюзию, неотразимость которой
действует и поныне.
Как же это удалось? На чем основано ощущение неподдельности рассказа?
Прежде всего, семантика достоверности заложена в самой форме
повествования от первого лица {См. об этом подробнее: Атарова К. Я., Лесскис
Г. А. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной
прозе. (Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 35. 1976. Э 4.)}. И
не случайно все романы Дефо написаны в этой форме: автор как бы хочет
сказать, что это не вымысел, а подлинные мемуары или дневники, правдивая
история, быль. Ведь повествователь прямо утверждает: "Это произошло со мной
самим" (как в "Робинзоне Крузо"), или (как в "Дневнике Чумного Года") - "Я
только рассказываю о том, что знаю, что видел сам, о чем слышал, об
отдельных случаях, попавших в мое поле зрения". Что же может звучать
убедительнее для неискушенного читателя?
На самом-то деле повествователь, конечно, вымышленный. Дефо ко времени
Великой лондонской чумы не исполнилось и шести лет. Так что, несмотря на всю
свою памятливость, он пишет, опираясь более на свидетельства очевидцев, чем
на собственные наблюдения {Правда, в предисловии к "Должным предуготовлениям
к чумной эпидемии" Дефо утверждает, что "прекрасно помнит последнюю
лондонскую чуму, которая поразила страну в 1665 году", но в какой мере
следует принимать это утверждение на веру - не ясно.}.
При этом в форме повествования "Дневника Чумного Года" есть свои
особенности, отличающие это произведение от других романов Дефо. Если
Робинзон Крузо, Молль Флендерс, полковник Джек или другие герои английского
романиста повествуют о собственных приключениях, причем рассказ их, как
правило, охватывает всю жизнь героев, от детства или юности до зрелости или
старости, то здесь повествователь выступает лишь как хроникер исторического
события, длившегося немногим более года. И в центре внимания само это
событие и общество в целом, а не судьба одного лица. Сведения же о
повествователе настолько скудны, что уместятся в одну-две строки: торговец
шорными товарами, родом из Нортгемптоншира, имеет брата, занимающегося
торговлей с Португалией и Италией, и сестру в Линкольншире - и это, пожалуй,
все. Даже имени его мы не знаем, только инициалы - Г. Ф.
В то же время именно потому, что событийный момент отступает на задний
план, значение самого повествовательного акта возрастает, как ни в одном
другом романе Дефо. Возникает не столько образ _героя_, сколько образ
_повествователя_. Некоторые исследователи даже полагают, что именно в
создании этого образа и заключается главный жанрообразующий признак
"Дневника Чумного Года" {См.: James E. Anthony. Daniel Defoe's Many Voices.
A Rhetorical Study of Prose Style and Literary Method. Amsterdam, 1972.}.
Говоря словами Э. Берджесса, перед нами "торопливая, разговорная,
подчас неуклюжая фиксация воспоминаний о великом историческом событии,
которое пережил рядовой лондонский купец, обладающий лишь интересом к фактам
- своего рода журналистским талантом, но лишенный какого бы то ни было
литературного образования, если не считать основательного знакомства с
Библией, естественного для купца-нонконформиста эпохи Реставрации" {Burgess
A. Op. cit. P. 6.}.
Хотя произведение и названо дневником, форма повествования в нем
мемуарная... Для дневниковой формы характерна спонтанность изложения,
отсутствие временного разрыва между событием и его описанием. Однако у Дефо
и ранее, в "Робинзоне Крузо" например, где наряду с мемуарами вводился и
"Дневник" героя, дневниковая форма изложения исподволь размывалась и вновь
переходила в мемуарную. События, изложенные в "Дневнике" Робинзона, отчасти
(для вящей убедительности!) дублируют события, рассказанные в мемуарах.
Однако дневниковая форма выдержана непоследовательно: рассказчик то и дело
вводит в дневниковую запись, привязанную к определенной дате, те сведения,
которые он мог узнать только позднее, лишая тем самым свои записи основного
преимущества дневника - эффекта непосредственности описания событий.
А в "Дневнике Чумного Года" повествование не только не привязано к
датам, но шорник Г.Ф. не скрывает, что к моменту изложения его воспоминаний
прошло уже много лет со времени чумы: {Любопытная деталь, указывающая на
эклектику повествовательной формы "Дневника Чумного Года" - заголовок
"Воспоминания о чуме" (Memoire of the Plague), помещенный на спусковой
(начальной) полосе и повторенный в колонтитулах первого издания книги. Он
как бы вступает в противоречие с ее названием.} кое-что он уже позабыл, а
главное - многое изменилось, и прежде всего иным стал сам облик города,
пережившего Великий лондонский пожар; иными стали нравы и настроения людей.
Более того, мемуары шорника своею сбивчивостью скорее походят на устный
рассказ, свободный от строгой хронологической последовательности.
Повествователь то забегает вперед, то возвращается назад, по нескольку раз
излагает одни и те же события, продвигаясь от начала эпидемии к ее
завершению зигзагами, в чем-то даже предвосхищающими повествовательную
манеру Лоренса Стерна в "Жизни и мнениях Тристрама Шенди": ведь переход от
одной темы к другой чаще всего связан ассоциативно с предшествующим
изложением, хотя иногда и ничем не мотивирован.
Стремление к достоверности, в принципе свойственное всем романам Дефо,
доводится здесь до предела, почти до абсурда. Повествователь скрупулезнейшим
образом то и дело поясняет, что видел собственными глазами, что слышал от
очевидцев, какие данные представляются ему надежными, какие - внушают
сомнение...
И однако, хотя он неоднократно повторяет, что является лишь "простым
наблюдателем событий", его собственные взгляды и мнения проявляются чуть ли
не в каждой строке. Рассказ пестрит выражениями типа: "по-моему", "на мой
взгляд", "не могу не признать", "обязан упомянуть", вносящими личностный
элемент в сухой, информативный стиль, хотя повествователь частенько
одергивает сам себя, напоминая читателю, что он лишь регистратор событий, не
более: "...возможно, некоторые сочтут это <...> ханжеской набожностью,
чтением проповеди вместо описания реальных событий; подумают, что я
становлюсь в позу учителя, а не простого наблюдателя; и это удерживает меня
от дальнейших рассуждений, сделать которые мне бы очень хотелось".
Сам стиль рассказа, которым пользуется здесь Дефо, как ни в каком
другом романе, усиливает иллюзию правдоподобия. Рассказ шорника не только
зигзагообразен, но и тяжеловесен, подчас косноязычен {Энтони Джеймс в
упомянутом выше исследовании отмечает, что длина предложения в "Дневнике
Чумного Года" нередко достигает 100-150 слов.}. Повествование грешит
бесконечными повторами, которые лишь усугубляются навязчивыми оговорками
("повторяю", "как я уже говорил", "как сообщалось выше", "о чем уже известно
читателю" и так далее) или обещаниями, не всегда выполняемыми, рассказать о
чем-то подробнее, неоднократными возвращениями к уже изложенному материалу,
причем при повторном изложении иногда возникают детали, противоречащие ранее
сообщенным фактам.
Все эти особенности повествования заслужили противоречивые оценки
критиков. Одни (прежде всего те, кто считал дневник трудом историческим)
упрекали Дефо в спешке и неряшливости изложения. Другие видели в этом
вершину художественного мастерства, сознательное стремление создать образ
неумелого, неискушенного рассказчика задолго до "Тристрама Шендн" Стерна.
У читателя "Дневника" возникают и другие неожиданные ассоциации со
Стерном, но об этом позднее. А в большинстве эпизодов в стиле повествования
нет ничего стернианского: он сух и тем более потрясает трагичностью событий,
чем скупее и беспристрастнее о них сообщается. Как сказал профессор
Кембриджского университета Дж. Г. Плам, ""Дневник Чумного Года" - это
"повесть ужасов, изложенная великим мастером реалистического рассказа"
{Plumb J. H. Op. cit. P. IX.}. Действительно, здесь обо всем говорится скупо
и сухо: и о детях, сосущих грудь уже умерших матерей, и о покойниках,
которых некому вытащить из дому, чтобы предать земле, и о чудовищных ямах -
общих могилах, куда ночью вповалку бросают тела умерших, и о нестерпимых
муках во время болезни, и о варварских методах лечения...
Эта сухость стиля, подчас воспринимаемая как душевная черствость самого
автора, в значительной мере свойственна всем романам Дефо. Парадоксальным
образом его проза, несмотря на обилие подробностей, а подчас и громоздкость
стиля, производит впечатление простоты, лаконизма, кристальной ясности.
Перед читателем лишь констатация фактов - пусть даже и небывало
детализованная для своего времени, - а пояснения, описания душевных движений
сведены к минимуму и, как правило, неподробны, непластичны, заменены
отпиской: "неизъяснимо", "неописуемо", "неподвластно перу". Вот, к примеру,
эпизод из "Дальнейших приключений Робинзона Крузо" - описание смерти верного
Пятницы: "...в него полетело около трехсот стрел - он служил им единственной
мишенью, - и, к моему неописуемому огорчению, бедный Пятница был убит. В
бедняка попало целых три стрелы, и еще три упало возле него: так метко
дикари стреляли!" {Дефо Даниэль. Робинзон Крузо. Academia, M.; А, 1924. С.
658.} Чарлз Диккенс впоследствии скажет, что в мировой литературе не было
ничего более бесчувственного, чем описание смерти Пятницы {Письмо Диккенса к
Уолтеру Сэведжу Лэндору от 5 июля 1856 года; цит. по: Диккенс Ч. Собр. соч.
в 30 т. М., 1963. Т. 30. С. 66.}.
Однако лаконизм в описании эмоций не означает, что Дефо не передает
душевного состояния героев, не воспроизводит атмосферы гнетущего ужаса,
окутавшей чумной город. Часто он пользуется для этого какой-нибудь одной, но
впечатляющей деталью: "Другая телега была найдена в огромной яме на
Финбери-Филдс; перевозчик не то помер, не то, бросив ее, сбежал, а лошади
подошли слишком близко к краю, телега упала и потянула за собой лошадей.
Полагали, что и перевозчик был там и его накрыло телегой, так как кнут
торчал среди мертвых тел; но ручаться, по-моему, за это нельзя".
Этот кнут, возвышающийся над грудой трупов, напоминает своей лаконичной
жутью деталь из "Робинзона", когда герой, разыскивающий у берегов
необитаемого острова своих товарищей по несчастью, находит лишь два непарных
башмака.
Однако именно в "Дневнике" Дефо подчас более патетичен, чем в других
своих произведениях, и некоторые сценки могли бы служить (а может, и
послужили!) моделью автору "Сентиментального путешествия". Таков, например,
эпизод, повествующий о встрече рассказчика с лодочником, трогательно
радеющим о своем заболевшем семействе; по тональности он столь близок к
"чувствительному" роману конца века, что хочется привести его здесь для
наглядности:
"Как не мог я сдержать слез, когда услышал историю этого человека, так
не мог сдержать и своего желания помочь ему. Поэтому я окликнул его:
- Послушай, друг, пойди-ка сюда, потому что я твердо верю, что ты
здоров, и я могу рискнуть приблизиться к тебе. - Тут я вытащил руку, которую
до того держал в кармане. - Вот, поди позови свою Рейчел еще раз и дай ей
эту малость. Господь никогда не покинет семью, которая так в него верует.
С этими словами я дал ему еще четыре шиллинга, попросил положить их на
камень и снова позвать жену.
Никакими словами не опишешь благодарности бедняги, да и сам он мог ее
выразить лишь потоками слез, струившихся по щекам. Он позвал жену и сказал,
что Господь смягчил сердце случайного прохожего, и тот, услыхав об их
положении, дал им все эти деньги, и гораздо большее, чем деньги, сказал он
ей. Женщина тоже жестами выразила свою признательность и нам и Небу, потом с
радостью унесла приношение; и думаю, что за весь тот год не потратил я денег
лучшим образом".
Но, возможно, художественное чутье подсказывает Дефо, что его
"Дневнику" не хватает сюжетности. И шорник, извинившись перед читателем, на
долгое время уходит со сцены, уступив место героям огромной вставной
новеллы, повествующей о злоключениях трех лондонцев, отправившихся в
провинцию, чтобы спастись от чумы. Их попытка жить независимо, обособившись
от остального мира, чтобы избегнуть заразы, чем-то напоминает "робинзонаду"
первого романа Дефо, но опять же робинзонаду коллективную.
Как истинно великий художник, Дефо расширяет границы эстетического
восприятия действительности - в "Робинзоне Крузо", как никогда до того,
"главный художественный акцент сделан на будничных занятиях рядового
человека" {Watt I. The Rite of the Novel. Pensum Books, 1977. P. 82.}.
"Странные и удивительные приключения" Робинзона связаны прежде всего с его
повседневными трудами и заботами - изготовлением мебели, обжигом горшков,
устройством жилья, выращиванием посевов, приручением коз...
И здесь, во вставной новелле "Дневника Чумного Года", внимание
читателей приковано к массе мелких бытовых подробностей коллективного быта
небольшой группы беженцев. Почти с такой же степенью детализации, как и в
"Робинзоне", рассказывается, как эти беженцы обосновались в лесу, строят
дом, мастерят очаг, оборудуют постели, пытаются выпечь хлеб...
Вероятным источником сюжета о трех лондонцах была реальная история трех
жителей Гамбурга, покинувших родной город во время чумы 1712-1713 годов в
Германии. Рассказ об этом событии был помещен в упоминавшейся выше книге
доктора Мида, хорошо известной Дефо. В жизни история эта закончилась
трагически - гибелью всех ее участников. Но Дефо, в принципе не боявшемуся
ужасов, в данном случае не нужна была трагическая развязка. Пафос этой
новеллы, как и пафос "островной части" первого романа Дефо, заключен в
убеждении, что люди способны противостоять стихийному бедствию. Многое в
жанровой специфике "Дневника" позволяет с уверенностью сказать, что перед
нами художественный текст. И в то же время солидные историки, такие,
например, как Дж. М. Тревельян в своей "Социальной истории Англии",
ссылаются на него как на надежный исторический труд. Историки по-своему
правы: большинство фактических материалов "Дневника" на поверку оказались
документально точными (что, однако, отнюдь не умаляет его
художественности!). Для того чтобы воссоздать безыскусственный, неумелый,
подчас косноязычный рассказ шорника Г. Ф., Дефо изучил немало исторических
свидетельств времен чумы и воспроизвел содержащиеся в них сведения подчас
почти дословно {См. об этом подробнее примечания к настоящему изданию.}.
Назовем лишь некоторые из его источников. Помимо классического труда
Фукидида, посвященного описанию чумы в Афинах в 430 году до нашей эры, это в
основном исторические документы, связанные с лондонской чумной эпидемией
1665 года: газетные сообщения (и прежде всего, публиковавшиеся в них
еженедельные сводки смертности); распоряжения лорд-мэра и Совета олдерменов,
включенные в роман Verbatim; труды врачей, свидетелей чумной эпидемии 1665
года ("Наука о заразных заболеваниях, или Исторический отчет о лондонской
чуме 1665 года" (1665) доктора Натаниэля Ходжсона, "Трактат о заразных
заболеваниях" (1665) доктора Богхерста, "Краткий отчет о чуме" (1665)
доктора Кемпа); брошюры и памфлеты, вызванные к жизни ужасными событиями той
поры (брошюра Винсента "Грозный глас Господен в столице" (1667), анонимный
памфлет "Несколько серьезных возражений против практикуемого в Англии
запирания зараженных домов. В форме обращения несчастных, пораженных чумой,
к их здоровым собратьям, пребывающим на свободе" (1665) и памфлет "Голгофа,
или Зеркало для Лондона" (1665), подписанный лишь инициалами "Дж. В.").
Дефо широко использует приведенные во всех этих сочинениях факты,
вплоть до отдельных неточностей, перекочевавших в "Дневник" из некоторых
указанных выше исследований, особенно из труда доктора Ходжсона, скрытых
цитации из которого в "Дневнике" довольно много.
Одним из излюбленных способов создания иллюзии достоверности у автора
"Робинзона Крузо" было введение в текст всяческих описей, реестров,
перечней: сколько и каких вещей удалось спасти с севшего на мель корабля,
сколько и каким способом убито индейцев, сколько и какие запасы
продовольствия сделаны на сезон дождей и т.д. Сама монотонность и
деловитость этих перечней создает иллюзию достоверности - вроде бы, зачем
так скучно выдумывать?
А в "Дневнике Чумного Года" автор и не утруждает себя выдумкой: все
цифры в многочисленных сводках смертности и других таблицах со
статистическими данными подлинные и, по утверждению историков, точные, то
есть совпадают, за несколькими редкими исключениями, с цифрами официальных
отчетов того времени.
Если взглянуть на "Дневник Чумного Года" сквозь призму современных
литературных тенденций, то становится ясно, что "Дефо во многом опередил
время, создав свою книгу. Он проложил дорогу создателям будущих
художественных произведений на документальной основе, которые получили столь
широкое признание во второй половине XX века" {Подгорский А. В. "Дневник
Чумного Года". Д. Дефо и документальный жанр в английской литературе начала
XVIII века // Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. М.,
1982. С. 88.}.
Дж. М. Тревильян считает, что "Дефо первым усовершенствовал искусство
репортера; и даже его романы, такие как "Робинзон Крузо" и "Молль Флендерс",
являются репортажами о повседневной жизни - на пустынном ли острове или в
воровском притоне" {Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. С. 312.}.
Эту мысль с еще большим основанием можно отнести к "Дневнику Чумного Года",
где есть "двуединая правда - правда обстоятельного и кропотливого
исторического документа и высшая правда - та, что принадлежит творческой
фантазии" {Burgess A. Op. cit. P. 19.}.
ПРИМЕЧАНИЯ
"Дневник Чумного Года" вышел в свет 17 марта 1722 года в Лондоне
небольшим томиком (287 страниц) форматом в 1/8 часть листа. Второе издание
было опубликовано уже после смерти автора братьями Т. и Дж. Нобл в 1754
году. Текст остался нетронутым, однако название было изменено и звучало:
"История Великой Лондонской чумы 1665 года. Содержащая наблюдения или
воспоминания о самых замечательных событиях, как общественных, так и сугубо
личных, которые произошли в то ужасное время..." Были также сняты заголовок
спусковой полосы и колонтитулы "Воспоминания о чуме". Третье издание,
опубликованное теми же издателями и во всех отношениях повторяющее второе,
появилось в 1769 году.
Предлагаемый перевод выполнен по наиболее авторитетному в
текстологическом отношении английскому изданию: Danel Defoe. A Journal of
the Plague Year (The Shakespeare Head Edition of the Novels and Selected
Writings of Daniel Defoe). Oxford, 1928. Это издание воспроизводит, за
исключением очевидных опечаток, первое издание "Дневника". В русском
переводе не соблюдены лишь две особенности первого издания, которые обычно
не воспроизводятся и в современных английских изданиях "Дневника", - не
сохранено написание с заглавных букв всех существительных и не выделены
курсивом все упоминаемые в произведении топонимы.
1 ...из Леванта... - Левант (ист.) - общее название стран, прилегающих
к восточной части Средиземного моря. Англия издавна вела торговлю со
странами Леванта; с 1592 г. существовала даже Левантская торговая компания,
основанная слиянием Турецкой компании (1581) и Венецианской компании (1583),
импортировавшей фрукты и вина из Венеции. Левантская компания проводила
торговые операции в Европе, Сирии и Месопотамии, она просуществовала до 1821
г.
2 ...из Кандии... - Кандия (ист.) - название, данное арабами острову
Крит, который они завоевали в IX-X вв.; название происходит от
одноименного города, основанного арабами на этом острове.
3 Газеты в те дни еще не издавались... - Как полагает Уотсон Николсон
(см. Послесловие), Дефо сознательно сделал ложное утверждение: ведь сам он
при создании "Дневника" пользовался, и весьма широко, информацией,
помещаемой в газетах того времени, и прежде всего в "Ньюз" ("Новости") и
"Интеллидженсер" ("Осведомитель"), издаваемых Роджером Д'Эстранжем
(1616-1704); в первой из них с начала июня 1665 г. печатались еженедельные
сводки смертности, помещались и другие, самые разнообразные, материалы,
которыми мог воспользоваться Дефо при создании "Дневника": новости политики,
торговли, сообщения о погоде, об урожаях, о благотворительных
пожертвованиях, о распространении чумы по другим районам Англии;
существенно, как отмечает У. Николсон, и то, что в газете приводились всякие
случаи из жизни (анекдоты, как их тогда называли), связанные с Лондонской
чумой.
Другим известным газетчиком был Генри Маддингтон (род. 1629), один из
самых знаменитых журналистов XVII в., издававший с 1659 г. "Парлиментари
интеллидженсер" ("Парламентский осведомитель") и "Меркуриус публикус"
("Общественный Меркурий"). Им же в 1665 г., в период, когда двор в связи с
чумной эпидемией находился в Оксфорде (см. примеч. 49), было начато издание
"Оксфорд гэзетт", которая позднее преобразовалась в "Лондон гэзетт",
существующую и поныне.
4 ...меры, долженствовавшие воспрепятствовать распространению заразы...
- Имеются в виду брошюры типа той, которая была выпущена во время эпидемии:
"Необходимые указания по предотвращению заразы и лечению чумы" (1665). Дефо,
как и авторы этой брошюры, трактуют чуму прежде всего не как Божью кару,
против которой все усилия людей бесплодны, а как заразную болезнь, с каковой
следует бороться рациональными научными методами.
5 Друри-Лейн. - Название улицы восходит к семейству Друри, которое в
тюдоровские времена жило здесь в большом особняке; театр, носящий это имя,
был первоначально ареной для петушиных боев. В театр он был превращен при
Якове I, затем, при Карле II, перестроен Томасом Киллингрю, получившим на
него патент в 1662 г.; во время Великого лондонского пожара 1666 г. сгорел и
вновь был отстроен К. Реном в 1674 г.
6 ...двух докторов и хирурга... - В те времена хирурги (surgeons) в
медицинской иерархии стояли ниже врачей (physiciens), но выше аптекарей (см.
примеч. 138). Лишь в 1745 г. хирурги, принадлежавшие до того к тому же цеху,
что и цирюльники, образовали собственную корпорацию. Об этом размежевании с
огорчением говорит цирюльник Патридж, персонаж романа Генри Филдинга
"История Тома Джонса-найденыша": "Вы напомнили мне о жестоком разобщении
двух связанных между собой братств, губительном для них обоих, как и всякое
разъединение, по старинной пословице: "Vis imita fortior ("соединенные силы
мощнее"), и найдется немало представителей того и другого братства, которые
способны их совместить. Какой удар это был для меня, соединяющего в себе оба
звания!" (книга VIII, гл. VI).
7 ...признаки страшной болезни... - В Чумной Год свирепствовала
бубонная форма чумы, характеризующаяся увеличением лимфатических узлов в
паху, реже - под мышками и на шее, где образуется чумной бубон. Заболевание
сопровождается резкой интоксикацией всего организма, поражением нервной и
сердечно-сосудистой систем, высокой температурой, рвотой, бредом.
Встречалась, судя по описаниям Дефо, и смертельная форма легочной и бубонной
чумы, которую именовали "Черной Смертью"; название это связано с черными
пятнами, проступавшими на коже жертвы, в народе эти пятна называли просто
"знаками".
8 ...сведения передали приходскому служке... - в Англии XVII в. приход
был и церковным округом со своей собственной церковью и священником, и
административной единицей государственного управления, входящей в более
крупное подразделение - "сотню" - округ графства со своим судом. В каждом
приходе были свои церковные старосты, попечители по призрению бедных,
констебли, церковные служки, бидлы (см. примеч. 124), могильщики, звонари и
прочие. Приходский служка - назначаемое приходским советом или священником
должностное лицо, в чьи обязанности входит ведение канцелярских дел, а также
участие в богослужении. До 1921 г. эта должность была пожизненной.
9 ...в приходе Сент-Джайлс... - В Лондоне было два прихода с таким
названием: один с приходской церковью Св. Эгидия на полях
(Сент-Джайлс-ин-де-Филдс), довольно густонаселенный район неподалеку от
Холборна, другой - с церковью Св. Эгидия в Крипплгейте - неподалеку от
одноименных городских ворот (см. примеч. 45). В данном случае речь идет о
первом из названных приходов. Джайлс - английская форма имени Эгидий; св.
Эгидий (конец VII - нач. VIII в.) считался покровителем калек и прокаженных.
10 Сент-Эндрюс (Холборн) - приход вне стен Сити с церковью Св. апостола
Андрея в Холборне, западном районе города; название этого района было
связано с протекавшей там речушкой Хоулбурн, которая в своем нижнем течении
переходила в речку Флит (см. примеч. 185).
11 ...обычное число похорон значительно возросло, - Еженедельные сводки
с данными смертности Дефо мог приводить по многим источникам: по газетам
(см. примеч. 3), по выпущенному в 1665 г. приходским служкою Джоном Беллом
собранию еженедельных сводок: "Напоминание о Лондонской чуме"; материал
этого издания был в том же году включен в сочинение Джона Гонта "Размышления
над еженедельными сводками" (книга была переиздана в 1720 г.); кроме того, в
библиотеке Дефо была книга, посвященная Лондонской чуме - "Великое
испытание, постигшее Лондон", там тоже содержался статистический материал.
12 Сент-Брайдс - приход вне стен лондонского Сити с приходской церковью
Св. Бригитты (453-523); Церковь существовала с VI в., но неоднократно
разрушалась и перестраивалась; восстановлена в восьмой раз в 1957 г.; Брайд
- английская форма имени Бригитта.
13 Сент-Джеймс (Кларкенуэлл) - один из "внешних" приходов Миддлсекса
(т. е. расположенный вне городских стен) с церковью Св. Иакова, дважды
подвергавшейся реконструкции - около 1790 г. и в конце XIX в.; однако
скульптуры XVI в. сохранились и поныне. Кларкенуэлл - район Лондона, с
севера примыкающий к Сити (см. примеч. 16). Название происходит от колодца
(англ. "well"), рядом с которым лондонские приходские служки (англ.
"clerck") обычно устраивали свои представления (миракли).
14 ...в прошлый чумной мор 1656 года. - Вероятно, в первом издании
"Дневника" была допущена опечатка в дате, воспроизводившаяся в позднейших
изданиях, так как последняя серьезная вспышка чумы - до эпидемии 1665 г. -
наблюдалась в Лондоне в 1636 г. (это же подтверждает и текст самого
"Дневника", см. ниже). Согласно сводкам смертности, в 1656 г. в Лондоне от
чумы погибло всего 6 человек, т. е. не больше, чем в несколько
предшествующих и последующих лет, тогда как в 1636 г. погибших было 10 400
человек. Вот как характеризует это событие известный английский историк Дж.
М. Тревельян: "Более слабая вспышка чумы была также в 1636 году. Затем для
Лондона наступил тридцатилетний период сравнительного иммунитета <...> В
1665 году разразилась последняя вспышка, и хотя она унесла не больше
лондонских жителей, чем некоторые из ее предшественниц, чума произвела
большее впечатление, потому что теперь она появилась во время более развитой
культуры, комфорта и безопасности, когда о таких бедствиях меньше
вспоминали, меньше их ожидали" ("Социальная история Англии". М., 1959. С.
307).
15 Сент-Клемент-Дейнз - один из приходов Вестминстера (см. примеч. 41),
с церковью Св. Климента Датского, существующей с IX в.; согласно преданию,
датчанам, изгнанным из Лондона королем Альфредом (ок. 849 - ок. 900), было
разрешено селиться в этом пригороде, в случае если они были женаты на
англичанках; построенная ими церковь была разрушена Лондонским пожаром 1666
г., отстроена К. Реном и вновь пострадала во время Второй мировой войны;
реставрирована в 1957 г.
16 ...Сити... внутри городских стен... - Лондонский Сити - исторический
центр города, расположен на левом берегу Темзы. Ограничивающая его
набережная простирается от Тауэра почти до самого Темпла (см. примеч. 53).
Сити был обнесен городской стеной с воротами (англ. "gate"): Олдгейт,
Бишопсгейт, Мургейт, Крипплгейт, Олдерсгейт, Ньюгейт, Ладгейт и вдоль Темзы
- Боугейт, Нортгейт, Биллингсгейт. Само английское слово "city", в отличие
от "town" и "borough", означало местопребывание епископа или главный город
его епархии. "Town" назывался город, имеющий церковь (или церкви), а также
постоянный рынок. Отличительной чертой "borough" было то, что этот город или
городок имел свое парламентское представительство.
17 Сент-Мэри-Вулчерч. - Приход с этой церковью находился внутри стен
Сити.
18 ...в... прилегающих к нему слободах... - Слободы (ист.) - районы,
прилегающие к Сити, на которые распространялись привилегии Сити.
19 ...учиненном мировым судьей... - Институт мировых судей был учрежден
в Англии Актом 1361 г. Избирались они в то время только из рыцарей и джентри
и обязаны были проводить квартальные сессии четыре раза в год. Не было
законов, точно указывающих сферу юрисдикции мировых судей. В XVI в. в их
полномочия входило такое количество административных функций, что их стали
называть "королевской прислугой на все случаи жизни". Должность была
пожизненной, считалась почетной, и обязанности выполнялись безвозмездно. От
мировых судей не требовалось специального юридического образования. Они
должны были обладать лишь "здравым смыслом", "пониманием принципов права и
уважением к ним", а также знанием местных нравов и обычаев. С 1590 г.
мировые судьи могли действовать единолично, совместно с коллегами и
коллективно - во время заседаний квартальных сессий. Действуя единолично,
судья имел право посадить подозреваемого в тюрьму до судебного
разбирательства, наказывать штрафом или колодками виновных в богохульстве,
пьянстве, бродяжничестве, непосещении церкви, несоблюдении воскресного
покоя, а также вызывать на квартальные сессии приходских чиновников, плохо
исполняющих свои обязанности. Большинство полномочий мировых судей было
упразднено в 1889 г.
20 ...по просьбе лорд-мэра... - Мэр - самое высокое должностное лицо в
городе. В Лондоне институт мэров существовал с 1191 г. Юрисдикция мэра
распространялась на Сити и прилегающие к нему слободы. В других приходах
административная власть принадлежала мировым судьям (поэтому-то лорд-мэр мог
только "просить" мирового судью учинить в Сент-Джайлсе более тщательное
расследование). Мэр лондонского Сити (которого часто называли мэром
Лондона), как и главы муниципальной власти некоторых других городов Англии
(Бирмингема, Лидса, Манчестера, Ливерпуля, Йорка) и Северной Ирландии,
получал титул лорда. Мэр председательствует на заседаниях городского совета,
состоящего из олдерменов, имеет широкий круг полномочий и большой штат
подчиненных ему чиновников.
21 Вуд-стрит - букв.: Лесная улица, находится в пределах Сити.
22 Фенчерч-стрит - улица в Сити между Ломбард-стрит и Олдгейт (Старыми
воротами); ее название можно перевести как "улица, где стоит церковь на
болоте".
23 Крукт-Лейн - Кривой переулок, находится в Сити.
24 В Саутуэрке... - Саутуэрк - район в южной части Лондона, на правом
берегу Темзы, там находится Саутуэркский собор (XII в.) - после
Вестминстерского аббатства самое известное готическое здание столицы. С Сити
Саутуэрк связан Лондонским мостом. Изначально этот район назывался
Баро-оф-Саутуэрк, поэтому в неофициальной речи его называли просто Баро:
таким образом слово "баро", означающее городок, предместье, имеющее
парламентское представительство, превратилось в имя собственное. Дефо в
"Путешествии по всему острову Великобритания" справедливо предрекает расцвет
этому району, который он поочередно именует то Баро, то Саутуэрк; "Ньюингтон
протягивает руку на север и почти соединяется с Саутуэрком, так что его
нельзя назвать в собственном смысле самостоятельным городом, а только баро,
и когда - а многие утверждают, что это уже началось, - поля Сент-Джорджиса
покроются улицами и площадями, пройдет совсем немного времени, и Ньюингтон,
Ламбет и Баро все вместе составят один Саутуэрк".
25 ...Я жил за Олдгейт - примерно на полдороге между Олдгейт-Черч и
Уайтчепл-Барз... - Олдгейт - старейшие ворота Сити, существовавшие в
Лондонской стене со времен римского завоевания; в начале XVII в. эти ворота
были снесены и на их месте сооружены новые, просуществовавшие до середины
XVIII в.; главная улица квартала - Олдгейт-Хай-стрит - частично выходит за
ворота, размещаясь в северо-восточной своей части и в квартале Уайтчепл; так
что повествователь жил очень близко к Сити, но все же за городской стеной.
Квартал Уайтчепл (что означает "Белая часовня"), населенный мелкими
ремесленниками и эмигрантами, был одним из беднейших и наименее престижных
районов города. Главная его улица - Уайтчепл-роуд - служила въездом в город
с западной стороны. Уайтчепл-Барз - ворота или застава в месте пересечения
этой дороги с земляным рвом, вырытым для защиты города в 1643 г.
26 Брод-стрит - букв.: улица Широкая, неподалеку от Уайтчепл-роуд.
27 ...получить пропуск и удостоверение о состоянии здоровья... - Многие
города ввели за правило требовать у приезжих, особенно лондонцев, такие
удостоверения; однако удостоверения эти часто оказывались фальшивыми или не
соответствующими действительному состоянию путешественника; так что им
перестали доверять, и даже наличие удостоверения не гарантировало свободного
проезда (см. текст ниже).
28 ...вывозившими товары в английские колонии в Америке... - К этому
времени собственно английскими колониями в Америке были Ямайка (с 1655 г.),
Барбадос (1662 г.) и Антигуа (с 1663 г.); однако английские поселения, в
сознании рядовых англичан не отличавшиеся от колоний, были на многих
территориях Северной Америки: в Виргинии (с 1607 г.), Нью-Йорке (старое
название - Новый Амстердам; с 1614 г.), Массачусетсе (с 1620 г.),
Нью-Хемпшире (с 1623 г.), Коннектикуте (с 1635 г.), Мэриленде (с 1634 г.),
Новой Каролине (с 1650 г.), Нью-Джерси (с 1664 г.). На острове Ньюфаундленд
первые поселения возникли в 1623 г.
Сам Дефо был активным сторонником развития торговли, в том числе и
колониальной, о чем он не раз писал и в художественных произведениях, и в
трактатах: "В Торговле заключается благосостояние мира; Торговля делает
людей богатыми либо бедными, отличает одну нацию от другой; Торговля питает
промышленность, а промышленность порождает Торговлю; Торговля
перераспределяет естественные богатства мира, и Торговля приводит к новому
уровню благосостояния, о котором не могла помыслить Природа" ("Всеобщая
история Торговли, в особенности в отношении ее к британской коммерции",
1713). С государственной точки зрения Дефо приветствовал даже работорговлю,
хотя в нравственном плане осуждал "торговцев человеческими душами" за
жестокое отношение к неграм (см. сатирическое стихотворение "Исправление
нравов", 1703, и роман "Полковник Джек"). В своих трактатах на экономические
темы Дефо считал развитие работорговли одним из эффективных способов
оздоровления британской коммерции (см. "Опыт о проектах", "План английской
торговли"). Об этом же он пишет в 1710 г. и в издаваемой им газете
"Обозрение", называя работорговлю "самой полезной и прибыльной статьей
торговли из всех в общей британской коммерции".
29 "Спаси Себя Самого!" - евангельская аллюзия, слова, обращенные к
Иисусу Христу в момент Его распятия: "Проходящие же злословили Его, кивая
головами своими и говоря: "Разрушающий храм и в три дня Создающий! Спаси
Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста"" (Евангелие от Матфея, 27:
39-40).
30 ...родственники в Нортгемптоншире... - Инициалы "Г. Ф.", которыми в
самом конце книги подписан "дневник" шорника, расшифровываются многими
исследователями как принадлежащие дяде писателя Генри Фо (род. 1628),
которому было около 37 лет, когда в Лондоне разразилась чума, хотя
свидетельства, что он все это время оставался в столице, довольно туманны.
Однако члены семейства Фо были действительно выходцами на Нортгемптоншира,
графства Центральной Англии.
Со времен статута 1536 г., принятого при Генрихе VIII, Англия была
четко разделена на сорок графств, а Уэллс - на двенадцать. С 1689 г.,
согласно королевской хартии, девятнадцать английских городов функционировали
на правах графств: Лондон, Бристоль, Кентербери, Кармартен, Честер,
Ковентри, Эксетер, Глочестер, Хаверфордуэст, Гулль, Личфилд, Линкольн,
Ньюкасл, Норич, Ноттингем, Пул, Саутгемптон, Уорчестер, Йорк. Графства
подразделялись на округа ("сотни"), а те, в свою очередь, - на приходы (см.
примеч. 8).
31 ...единственная моя сестра в Линкольншире... - Одна из немногих
деталей, соответствующих биографической версии, упомянутой выше, так как у
Генри Фо была сестра Мэри; Линкольншир - графство в Восточной Англии.
32 Бедфордшир - юго-восточное графство Центральной Англии.
33 ...принимали участие в недавней войне... - Не совсем ясно, о какой
именно войне идет речь: гражданской войне и английской революции XVII в.,
первой англо-голландской войне 1652-1654 гг., закончившейся победой Англии
(Вестминстерский договор от 5 апреля 1654 г., согласно которому Голландия
выплачивала компенсацию и признавала английский Навигационный Акт от 9
октября 1651 г.). или Испанской войне 1655-1659 гг., в которой Англия вместе
с Францией тоже принимала участие.
34 ...чуму не занесли бы в такое количество городков и деревенских
домов... - Как пишет Дж. М. Тревельян, ""Лондонская чума" не ограничилась
только столицей. Очень серьезно пострадала Восточная Англия, но чума не
распространилась далеко на запад и север. В Ленгдейле (Уэстморленд),
ссылаясь на предание, до сих пор еще показывают развалины одиноко стоящего
домика, все жители которого умерли от чумы, занесенной солдатом, тогда как
оставшаяся часть долины и весь район не были заражены. Вероятно, в одежде
солдата находились блохи - носители чумных бактерий" ("Социальная история
Англии". С. 307).
35 ...мне вдруг пришла в голову совершенно ясная мысль: если то, что
случается с нами, происходит лишь по воле Божией, значит, и все мои
неурядицы неспроста... - Аналогичные размышления посещают и Робинзона,
попавшего на необитаемый остров: "Очевидно, все мы сотворены какой-то
таинственной силой, которая создала землю и море, воздух и небо. Но что это
за сила? На это следовал вполне естественный ответ: это Бог, который
сотворил все <...>. Постигшее меня несчастье послано мне по воле Божьей, ибо
Он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира".
36 ...сильнейшее интуитивное желание остаться... - Тема иррациональных
предчувствий, вещих снов, безотчетных импульсов проходит через большинство
произведений Дефо, писателя, которого в то же время многие критики упрекали
в чрезмерном рационализме. В "Робинзоне Крузо" он пишет: "Никогда не
пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности, даже
в тех случаях, когда вам кажется, что нет никаких оснований доверять ему". И
герой неуклонно следует собственному совету. Даже когда к острову подплыл
долгожданный корабль, Робинзон не бросается навстречу людям - "какое-то
тайное предчувствие <...> предостерегало его против них". Также и при
возвращении на родину Робинзон безотчетно решает отказаться от путешествия
морем - и действительно, те корабли, на которых он собирался ехать, не
достигли места назначения.
37 В этот момент я перестал листать книгу на 90-м псалме... - В
оригинале сказано "на 91-м псалме", так как нумерация большей части псалмов
в православной и англиканской Библии расходится на единицу. В этом эпизоде
Дефо повторил аналогичную ситуацию "Робинзона Крузо", когда герой раскрыл
Библию наудачу и ему бросились в глаза следующие слова: "Призови Меня в день
печали, и Я избавлю тебя, и ты прославишь имя Мое". Эти слова 49-го псалма
тоже коренным образом меняют мировосприятие Робинзона. Возможно, что в самом
выборе для цитации именно 90-го псалма Дефо следовал хорошо знакомой ему
книге Саймона Патрика "Утешительное рассуждение" (1665), где цитируются
буквально те же строчки этого псалма.
38 ...в Его руке дни мои... - библейская аллюзия: "А я на Тебя,
Господи, уповаю; я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои; избавь меня от
руки врагов моих и от гонителей моих" (Псалтирь, 30: 15-16).
39 Доркинг в Сарри - город в двадцати милях к юго-западу от Лондона в
графстве Сарри.
40 Бакингемшир - графство в Англии к северо-западу от Лондона.
41 ...в районе Вестминстера... - Наряду с Сити и Саутуэрком,
Вестминстер - один из основных районов Лондона в юго-восточной части города
на левом берегу Темзы. Здесь расположено знаменитое Вестминстерское
аббатство. Этот район объединял пять приходов: Сент-Клемент-Дейнз, Сент-Пол
(Ковент-Гарден), Сент-Мартин-ин-де-Филдс, Сент-Мэри-Савой, Сент-Маргерит
(Вестминстер).
42 ...судя по всему, от чумы умерло 900... - В связи с этим местом
Уотсон Николсон сообщает любопытный факт: "В Британском музее, в знаменитой
коллекции доктора Берни, есть комплекты газет, включающие и Чумной Год. На
полях каждого номера "Ньюз" (после того, как газета начала с первых чисел
июня 1665 года помещать сведения из еженедельных сводок) помещены
еженедельные и общие цифры количества смертей и число умерших от чумы. Эти
цифровые пометки сделаны чернилами, и сравнение их с другими записями,
заведомо принадлежащими Дефо, убеждает, что они принадлежат одной руке. То,
что цифры совпадают с приведенными в "Дневнике", ничего не подтверждает, так
как и те и другие совпадают с данными официальных сводок. Однако один из
номеров "Ньюз" не имеет такой чернильной пометки на полях. С обостренным
любопытством обратились мы к "Дневнику" за информацией на соответствующую
неделю (оканчивающуюся 11 июля 1665 года) и прочитали, что "общее число всех
смертей за прошедшую неделю от всех болезней составило 1268 человек, из
которых, судя по всему, от чумы умерло 900 человек". Это, по-моему,
единственное место, где Дефо привел цифру наугад".
43 Ламбетский приход. - Ламбет - южный район Лондона на правом берегу
Темзы, западнее Саутуэрка.
44 Сент-Мартин-ин-де-Филдс - приход с церковью Св. Мартина на полях,
существовавшей с XIII в., когда между Сити и Вестминстером простирались
поля. На ее месте в 1722-1726 гг. архитектором Дж. Гиббсом была построена
новая церковь.
45 Крипплгейт - приход, названный по одноименным воротам, одним из
северных ворот в Лондонской стене; существовали они с X в., название,
вероятно, восходит к др.-англ. "crepel" - "узкий проход"; согласно более
поздней этимологии: они названы были так потому, что вокруг проживало много
увечных (англ. "cripple"). В приходе Крипплгейт жил отец Дефо, мясник по
профессии.
46 Шордич. - Существует легенда, что этот район на северо-востоке
Лондона носит имя Джейн Шор (ум. 1527), любовницы Эдуарда IV, которая умерла
в нищете и, согласно этой легенде, в канаве (англ. "ditch"). Однако
серьезные исследователи утверждают, что название это существовало еще до
рождения Джейн Шор.
47 Бишопсгейт - главные северные ворота лондонского Сити; они
назывались Епископскими, хотя в честь какого именно епископа - неизвестно;
некоторые полагают, что в честь Эркенвальда или св. Ботольфа.
48 Степни - район в восточной части Лондона неподалеку от Тауэра.
49 ...двор <...> покинул ее еще раньше, а именно в июне, и переместился
в Оксфорд... - Одна из редких неточностей у Дефо; вероятно, он сообщает
здесь информацию, следуя расплывчатой формулировке доктора Ходжсона ("двор в
то время перебрался в Оксфорд"), у которого он заимствовал эти сведения.
Однако, судя по газетам того времени, которые пристально следили за
придворной жизнью, передвижения двора были следующими: 2 июля 1665 г. Карл
II перебрался в свою резиденцию в Хэмптон-Корт в пригороде Лондона и
оставался там до 28 июля. К 1 августа король переместился в Солсбери, по
дороге посетив Портсмут и остров Уайт. 15 сентября он отправился в поездку,
включавшую Пул, Лалуорт, Веймут, Портленд и Дорчестер; и к 21 сентября вновь
возвратился в Солсбери. К тому времени чума добралась и до этого города, так
что двор поспешно переехал в Оксфорд, где и находился с 25 сентября по 27
января 1666 г. К 1 февраля король возвратился в свою лондонскую резиденцию
Уайтхолл.
50 ...Богу угодно было уберечь всех придворных от заразы <...> однако
они и не подумали выказать хоть малейшие признаки благодарности и раскаяния,
хотя знали, что именно их вопиющие грехи могли столь безжалостно навлечь
жестокое наказание на весь народ, - Придворные нравы в эпоху Реставрации
были весьма вольными, что красноречиво запечатлела английская комедия того
времени; они резко контрастировали с пуританскими взглядами и стилем жизни
периода революции и нередко вызывали возмущение среднего и низшего сословий.
51 ...плакальщицы не кружили по улицам... - Помимо прямого смысла,
здесь имеется и библейская аллюзия: "Ибо отходит человек в вечный дом свой,
и готовы окружить его на улице плакальщицы" (Книга Екклесиаста, или
Проповедника, 12:5).
52 Судебные инны - четыре корпорации барристеров (адвокатов, имеющих
право выступать в высших судах) в Лондоне: Внутренний Темпл - старейший из
четырех, Средний Темпл, Линкольнз-инн и Грейз-инн (см. также примеч. 53-55).
Исторически это были вольные юридические общества, располагавшиеся в
соответствующих зданиях, существовавшие с конца XIII-XIV в. Инны управлялись
Советом бенчеров (от англ. "bench" - "скамья", то есть тех, кто сидит на
судейской скамье). Судебные инны были своего рода юридическим университетом:
студенты обучались там не только праву, но и богословию, музыке, танцам и
некоторым другим дисциплинам; каждый инн имел собственную трапезную,
библиотеку и часовню. До настоящего времени инны пользуются исключительным
правом приема в адвокатуру.
53 Темпл (англ. "храм") - группа зданий в Лондоне, расположенных вокруг
старинной церкви, одного из пяти уцелевших в Англии храмов круглой формы;
сооружен в 1185 г. по типу храма Гроба Господня в Иерусалиме
рыцарями-тамплиерами (храмовниками); церковь сильно пострадала от бомбежек
во время Второй мировой войны; в настоящее время восстановлена. С XIV в.
здания вокруг храма находятся в распоряжении юридических обществ: там
размещены два инна - Внутренний Темпл и Средний Темпл.
54 Линкольнз-инн. - Название восходит к имени первого владельца здания
Генри де Лейси, третьего графа Линкольна, который выстроил особняк в
царствование Эдуарда I. В качестве судебного инна здание функционирует с
1310 г. Из внутреннего двора особняка был выход на большую зеленую лужайку -
Линкольнз-Филдс.
55 Грейз-инн - самый поздний из судебных иннов; расположен несколько
севернее Линкольнз-инна (их разделяет Холборн); построен на землях,
пожалованных в 1294 г. Риджинальду де Грею, верховному судье и наместнику
Честера, часть которых он сдал внаем под устройство судебного инна для
студентов. Здесь обучались многие знаменитые англичане, в том числе Фрэнсис
Бэкон и Роберт Саути.
56 Уоппинг - район на левом берегу Темзы неподалеку от Тауэра; когда-то
здесь казнили через повешение пиратов, причем тела должны были оставаться на
виселице в течение трех приливов; позднее, когда виселицы убрали, там
постепенно образовались грязные улочки и переулки, идущие от Темзы вплоть до
Рэтклиффа (см. примеч. 57), заселенные главным образом моряками.
57 Рэтклифф - район на левом берегу Темзы вблизи от лондонских доков.
58 Роттерхитт - район на правом берегу Темзы напротив Уоппинга, в нем,
как правило, селились люди, чья профессия была связана с морем.
59 ...перенаселены ко времени этого мора... - В Лондоне ко времени чумы
проживало 460 000 человек, что составляло примерно одну десятую населения
всей страны.
60 ...я и дожил до времен еще большей населенности... - Дж. М.
Тревельян отмечает: "Лондону, потерявшему пятую часть своего населения от
чумы, удалось восстановить эту убыль так же легко и совершенно незаметно -
так непрерывен был приток населения из всех графств Англии и из доброй
половины европейских стран" ("Социальная история Англии". С. 308). К 1695 г.
население Лондона составляло уже 575 000 человек.
61 ...с окончанием войн, роспуском армий, реставрацией монархии... -
Монархия была реставрирована в 1660 г., когда после переговоров с
парламентом Карл II был провозглашен королем 8 мая и 25 числа того же месяца
высадился в Дувре. Соглашение, заключенное между парламентом и монархом,
сводилось к тому, что за королем оставалось право назначать министров,
созывать и распускать парламент, командовать вооруженными силами и
определять внешнюю политику, однако он лишался права устанавливать налоги
без согласия парламента, изменять законы и обязывался упразднить Звездную
палату - высший королевский суд, бывший орудием монаршего произвола. Актом о
расформировании от 13 сентября 1666 г. кромвелевская армия была распущена.
62 ...докладывали лорд-мэру о положении бедняков... - В то время в
Англии существовала специальная должность - попечитель по призрению
бедняков. В зависимости от его размеров и населенности, в каждом приходе
было от двух до четырех попечителей. В их обязанности входило: облегчать
положение нуждающихся, выдворять из прихода пришлых бродяг в те приходы, к
которым они приписаны, обеспечивать пропитанием незаконнорожденных детей,
брошенных своими родителями, а затем, позднее, пристраивать их в качестве
учеников и подмастерьев, производить сбор на бедных и составлять отчеты о
положении бедняков для мэрии и мировых судей.
63 ...в районе Спитлфилдса... - Название этого района (букв.:
Госпитальные поля) на северо-востоке Лондона связано с тем, что здесь был
Госпиталь Девы Марии, основанный Уолтером Брюном и его женой в 1197 г.
Позднее, после отмены Нантского эдикта (частично - 1629 г., окончательно -
1685 г.), в этом районе стали селиться французские протестанты
шелкопрядильщики, бежавшие из своей страны от религиозных преследований.
64 Но я должен вернуться назад, к началу этих удивительных событий. -
Возврат к событиям, предшествующим чуме, после того как рассказчик в своем
изложении добрался почти до августа 1665 г., - характерная черта
повествовательной манеры "Дневника", имитирующей естественный ход
воспоминаний с неизбежными отклонениями и забеганиями вперед. К финалу
романа эта манера будет утрироваться, что некоторые исследователи объясняют
чисто прагматическими причинами: Дефо изложил имеющийся в его распоряжении
фактический материал и, чтобы довести книгу до нужного объема, вынужден был
возвращаться к уже описанному. Есть и такая версия: поочередное
использование все новых исторических источников, с определенными вариациями
излагающих одни и те же события, приводило к неизбежным возвратам и
повторам.
65 "Земля крови". - "Землею крови", или "землею горшечника",
называлась, согласно Евангелию, та земля, которая была куплена на тридцать
сребреников, возвращенных Иудой, когда, "бросив сребреники в храме, он
вышел; пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
непозволительно положить их в сокровищницу церковную; потому что это цена
крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения
странников. Посему и называется земля та "землею крови" до сего дня"
(Евангелие от Матфея, 27: 5-8).
66 ...пылающая звезда, или комета... - Доктор Ходжес в своем труде
отмечает, что "вреда было больше от предсказаний досужих ротозеев, чем от
самих комет", Добавляя, что "ничто не может сравниться с силой того
гнетущего впечатления, которое произвели они на население, уже
предчувствовавшее грядущие беды". Достаточно сказать, что такой серьезный
ученый, как Джордж Томсон, врач, знаменитый тем, что решился вскрыть труп
умершего от чумы, чтобы лучше изучить характер болезни, писал в своем труде
о чуме ("Loimotomia", 1666): "То, что кометы, или пылающие звезды,
предсказывают смертным грядущие беды, подтверждается долгими наблюдениями и
печальным опытом".
67 ...до пожара... - Имеется в виду Великий лондонский пожар 1666 г.,
не унимавшийся в течение пяти дней и уничтоживший весь район Сити между
Тауэром и Темплом. Во время пожара было сожжено более тринадцати тысяч
домов.
68 ...флегматичные ипохондрики... - Вероятно, Дефо не четко понимал
значение этих медицинских терминов, так как употребил невольный оксюморон:
флегматик - человек спокойный, даже вялый, ипохондрик - человек, обладающий
тревожно-мнительным складом характера, болезненно внимательный к
собственному здоровью.
69 ...комета, предшествовавшая чуме, была бледновато-розового цвета
<...> комета, предвещавшая пожар, была яркой... - Две из трех комет 1664-
1665 гг., описанных Джоном Гэдбери (см. примеч. 73) в его сочинении "De
Cometis" ("О кометах"), полностью совпадают с описанием Дефо. Однако
знаменитый французский астроном того времени Адриен Озу дает совершенно иное
описание комет 1664-1665 гг.
70 ...знал и о естественных причинах, которыми объясняют астрономы
подобные явления... - Возможно, подразумевается следующее место в сочинении
доктора Ходжеса: "...То же можно сказать и о кометах: как бы ни был ужасен
их вид, но либо они располагаются в более высоких сферах и состоят из
скопища многих звезд, появляющихся в определенные периоды, либо - в более
низких сферах и являются продуктами сульфидных выделений, близких нашей
собственной атмосфере; и нет ничего странного в подъеме разнородных частиц в
виде пламени, если учесть быстроту движения и силу столкновения разных
частиц друг с другом, каким бы пугающим этот огненный хвост ни казался".
71 ...наживались, публикуя всякого рода прогнозы и предсказания... -
Книги по оккультизму будет писать позднее и сам Дефо - "Система магии"
(1726), "Отчет об истории и реальности привидений" (1727).
72 "Альманах Лилли" - один из альманахов, издаваемых Уильямом Лилли
(1602-1681), известным астрологом, публиковавшим ежегодные альманахи с
1644 г. и до смерти. Лилли был также автором всякого рода брошюр с
пророчествами и "Правдивой истории королей Якова I и Карла I" (1651); С.
Батлер изобразил его в своей знаменитой ирои-комической поэме "Гудибрас"
(1663-1678) под именем Сидрофила.
73 "Астрологические предсказания" Гэдбери. - Джон Гэдбери сочетал в
своих книгах кропотливые наблюдения ученого с предсказаниями астролога.
Здесь Дефо имеет в виду его сочинение "Спасение Лондона предрешено. Краткое
общее рассуждение о чуме", опубликованное в августе 1665 г.; в нем Гэдбери
говорит о провозвестниках лондонской чумы, среди которых выделяет
взаиморасположение Сатурна и Юпитера 10 октября 1663 г., Сатурна и Марса 12
ноября 1664 г., двух комет в конце 1664 г. и появление кометы в начале 1665
г.
74 "Бедный Робин" - название юмористического альманаха, начавшего
издаваться в 1661 или 1662 г.; в нем содержались лишь бурлески в адрес
астрологов. Дефо, вероятно, не читал альманаха, а судил о нем лишь по
названию.
75 "Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее". - Название представляет собой цитату из "Откровения
Иоанна Богослова" (18:4), где речь идет о Вавилонской блуднице.
76 "Благое предупреждение". - Книги с буквально таким названием
обнаружить не удалось; однако слово "предупреждение" содержится в очень
многих названиях или подзаголовках книг о чуме 1665 г. Так, возможно,
имелась в виду книга "Чудеса и привидения, или Предупреждение Британии", в
которой встречается выражение "благое предупреждение".
77 "Напоминание Британии". - Английский поэт Джордж Уизер (1588-1667),
переживший две лондонских чумных эпидемии - 1625 и 1665 гг., описал первое
из этих событий в поэме "Напоминание Британии. Описание недавней чумы"
(1628); кроме того, в 1644 г. вышла книга со сходным названием:
"Напоминание Англии, или Предупреждение свыше".
78 ...подобно Ионе в Ниневии - кричал на улицах: "Еще сорок дней - и
Лондону конец!" - Иона - библейский пророк; ослушавшись Бога, повелевшего
ему идти проповедовать в Ниневию, Иона хотел "бежать от лица Господа".
Однако корабль, везший Иону в Фарсис, настигла страшная буря, не унимавшаяся
до тех пор, пока моряки не выбросили Иону за борт. Тогда море стихло, Иона
же был проглочен китом, провел в его чреве три дня, после чего раскаялся и,
по велению Божию, был выброшен на сушу. Когда же Иона пришел в Ниневию, он
начал "ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал,
говоря: еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!" (Книга пророка Ионы,
3:4).
79 Другой <...> бегал <...>, как тот, вопивший "Горе Иерусалиму!"
незадолго до его падения, о котором упоминает Иосиф. - Имеется в виду
древнееврейский историк Иосиф Флавий (37 - после 100), автор сочинения
"Иудейская война", где, в частности, упомянут такой эпизод: "За четыре года
до войны (с Римом. - К. А.), когда в городе были мир и процветание, появился
некий Иисус, сын Анана, простой деревенский парень, который, придя на пир
Табернаклеса, вдруг разразился следующими воплями: "Глас с Востока, глас с
Запада, глас со всех четырех сторон света; глас, обращенный к Иерусалиму и
ко всем недавно вступившим в брак мужчинам и женщинам, и глас, обращенный ко
всему народу!" И так он кричал день и ночь, переходя с места на место на
всех улицах города <...> Его отвели к Альбинусу, правителю Иудеи, тот
приказал нещадно бить его плетьми, но истязаемый перенес побои без слез и
жалоб, и только горестным голосом при каждом ударе восклицал: "Горе, горе
Иерусалиму!" <...> И с тех пор вплоть до самой войны он никогда ни к кому не
приходил и не произносил других слов, кроме сокрушенного: "Горе, горе
Иерусалиму!" <...> И его не оставляли силы до тех пор, пока не началась
осада Иерусалима и не подтвердила его пророчество. После чего он вновь
забрался на стену города и прокричал более громким голосом, чем обычно:
"Горе, горе этому граду, этому храму, этому народу!", закончив словами: "И
горе мне!" И в тот же момент, посреди пророчеств, он был убит камнем,
выпущенным из орудия" (т. IV. кн. VII, гл. 12).
80 ...изрядно страху нагоняли пророческие сны старух или их толкования
снов других людей... - Известно, однако, что сам Дефо придавал значение снам
и даже видел вещие сны: однажды, когда он в течение нескольких месяцев
скрывался от ареста, ему приснился сон, что его пришли арестовывать;
проснувшись, он рассказал об этом шурину, а на следующее утро сон оказался
явью. Его знаменитый герой Робинзон Крузо тоже видит вещие сны: один из них
предвосхищает обстоятельства спасения Пятницы; другой - в "Дальнейших
приключениях Робинзона Крузо" - точно передает положение дел на острове в то
время, как Робинзон находится в Англии.
81 Больной фантазьи мнится - в небесах... - Вероятно, четверостишие
принадлежит самому Дефо, который, помимо прозы, писал и стихотворные
произведения.
82 Петти-Франс - искаж. Маленькая Франция; это место получило свое
название в связи с тем, что там селилось много французов; еще один район с
таким же названием находился в Вестминстере.
83 Он... описывает его <...> так точно... - Когда сам Дефо обращался в
своих сочинениях к подобным темам, его описания тоже отличались удивительной
точностью. Его "Правдивое сообщение о появлении призрака некоей миссис Виль"
(1705), где привидение непринужденно пьет чай и признается, что надетое на
нем платье уже побывало в чистке, многие читатели приняли за рассказ о
реальном событии.
84 "Да вот оно! Теперь сюда пошло!" - В описании эпизода с призраком
есть много параллелей с поэмой Дж. Уизера "Напоминание Британии" (см.
примеч. 77).
85 Особенно роковое сочетание планет ожидалось в октябре, другое - в
ноябре. - Вероятно, это утверждение - результат невнимательного чтения книги
Гэдбери "Спасение Лондона предрешено" (см. примеч. 73), где автор отмечал
особенно роковое положение Сатурна и Юпитера 10 октября 1663 г. и Сатурна и
Марса - 12 ноября 1664 г. В изложении Дефо получается, что между этими
событиями нет годичного промежутка.
86 Появилось несметное множество сект, движений и отдельных учений. -
Наибольшее число сект и религиозных групп возникло несколько раньше - в
период революции, в 40-50-е гг. XVII в.; ко времени реставрации монархии
многие из них распались, особенно те, что группировались вокруг
"боговдохновенных" лидеров. Наиболее мощными из уцелевших сект оставались
пресвитериане, индепенденты, баптисты и квакеры.
87 ...англиканская церковь, правда, была восстановлена <...> с
реставрацией монархии... - В период революции (особенно на первом ее этапе)
доминирующей церковью в Англии стала пресвитерианская (см. примеч. 88),
епископат был формально упразднен в 1646 г., соборная церковь - в 1649 г.,
хотя в некоторых уголках страны епископы уцелели вплоть до середины 50-х
годов; парламент стал фактически распоряжаться и церковными делами. После
реставрации монархии (см. примеч. 61) была восстановлена и государственная
церковь Англии, установленная еще в 1534 г. Актом о супрематии,
провозгласившим монарха светским главой англиканской церкви и узаконившим
разрыв с римско-католической церковью при сохранении значительной части
католических догматов и обрядов; примас англиканской церкви - архиепископ
Кентерберийский; высшее духовенство - архиепископы, епископы, настоятели
соборов - назначаются монархом; духовенство присягает на верность королю.
88 ...проповедники пресвитериан, индепендентов... - Пресвитериане -
одна из протестантских сект, разновидность кальвинизма в англоязычных
странах; пресвитериане отрицали власть епископов, считая, что религиозными
делами должны заниматься выборные старейшины ("пресвитеры"); в период
английской революции - религиозно-политическая партия, составлявшая правое
крыло пуритан. Индепенденты (букв.: "независимые") - приверженцы одного из
направлений протестантизма, отвергающего государственную церковь и церковную
организацию и выступающего за полную автономию каждой общины - конгрегации
(отсюда другое название представителей секты - конгрегационалисты). В период
английской революции индепенденты составляли левое, радикальное крыло в
парламенте и доминировали в нем с 1649 по 1659 г.
89 Диссиденты (букв.: "несогласные") - протестантские секты,
отделявшиеся от англиканской церкви начиная с XVI в. Сам Дефо, выросший в
диссидентской семье, неоднократно выступал в их защиту (см. подробнее
"Основные даты жизни и творчества" в наст. изд.).
90 ...преследовались правительством, стремившимся помешать их
собраниям. - После реставрации монархии было принято несколько законов,
направленных против представителей неофициальной церкви (они
распространились на все секты, кроме квакеров): Акт о корпорации (1661),
исключавший нонконформистов из городской корпорации; Акт о единообразии
(1662), предписывающий использование "Книги всеобщей молитвы" как
стандартного молитвенника во время богослужений (см. ниже подробнее); Акт о
молельнях (1664), запрещавший нонконформистам собственные богослужения, и
так называемый Акт о пяти милях (1665), запрещавший нонконформистским
священникам подходить к городам ближе, чем на пять миль. Действие последних
двух актов было отменено в 1689 г., а Акта о корпорации - лишь в 1828 г.
91 ...бронзовую голову монаха Бэкона... - Роджер Бэкон (1214?-1294) -
английский философ, монах францисканского ордена, человек огромной эрудиции
и разносторонних знаний, автор трудов по философии, логике, математике,
физике, химии и алхимии; современники считали его чудодеем и утверждали, что
он смастерил бронзовую голову, способную изрекать пророчества.
92 ...изображение матушки Шиптон. - Речь идет о легендарной колдунье и
предсказательнице, якобы жившей в Йоркшире в XV в.; утверждалось, что она
предсказала Великий лондонский пожар 1666 г.
93 ...голову Мерлина... - Мерлин, легендарный волшебник, которому было
открыто прошлое и будущее, фигурирующий в легендах артуровского цикла.
94 ...вокруг <...> молитвенных домов... - Так назывались помещения, где
проходили богослужения у некоторых протестантских сект и у квакеров.
95 Пьесы и интерлюдии <...> были запрещены к представлению... - В
период революции парламентскими декретами 1642, 1646 и 1647 гг. все
театральные представления были запрещены, актеры приравнены к бродягам, а
театры обречены на снос. В эпоху Реставрации театральные представления
возобновились. Однако в связи с эпидемией в 1665 г. театры в Лондоне были
закрыты и открыты вновь в ноябре 1666 г. Интерлюдия (то же, что интермедия)
- коротенькая комическая пьеска или сцена, разыгрывающаяся между актами
основной пьесы серьезного и назидательного содержания, чтобы развлечь
публику.
96 ...игорные дома... - Карты появились в Англии около середины XV в.,
причем вскоре (в 1464 г.) была предпринята попытка запретить их ввоз в
страну; в период революции пуритане вновь пытались ввести запрет на
карточные игры; долгое время держалось представление, что играть в карты в
воскресенье очень большой грех; в "Молль Флендерс", действие которой
относится к 1640-1660-м годам, героиня заходит однажды в игорный дом, хотя
и опасливо, спрашивает, допускаются ли туда женщины. В XVIII в. карты наряду
с танцами - уже широко распространенное развлечение на всех ассамблеях: в
них играют и мужчины и женщины. Самой популярной карточной игрой был вист
(до Реставрации название этой игры произносилось "виск"); играли также в
сэндуич и безик.
97 ...танцевальные и музыкальные залы... - В эпоху Реставрации танцы
снова вошли в моду - и при дворе, и среди широких слоев населения (в период
революции пуритане относились к танцам неодобрительно). Старший современник
Дефо Сэмюэл Пепис (1633-1703), автор знаменитых шифрованных дневников,
живописующих быт и нравы той эпохи (изданы посмертно в XIX в.), в записи от
1666 г. пишет, что наблюдал на бале "много французских танцев, особенно
один, очень красивый, который король называл "новым танцем"". Имелся,
вероятно, в виду менуэт. Однако ассамблеи с танцами, особенно в курортных
местах, стали широко распространены лишь в XVIII в.
"Музыкальные залы" первоначально возникли при кофейнях и гостиницах. Те
из них, которые посещались высшим обществом, постепенно преобразовались в
театры, как, например, Садлерз-Уэллз в Лондоне; те, куда ходили
простолюдины, остались концертными залами при тавернах.
98 ...обрушились на нас, почти как на Ниневию... - Ниневия - столица
Ассирии в конце VIII-VII в. до н. э. Этот процветающий город, согласно
Библии, погряз в пороке и разврате. После проповеди Ионы (см. примеч. 78)
ниневитяне раскаялись, и Господь отсрочил свое наказание почти на 200 лет.
Однако в 612 г. до н. э. Ниневия была разрушена войсками вавилонян и мидян.
99 ...сколько объявлений всяких профанов <...> было наляпано на дверях
домов... - Подобные объявления во множестве печатались и в газетах, о чем
сознательно умалчивает Дефо, хотя, судя по всему, он использовал их
материал. Например, в "Ньюз" (Э 58, от 27 июля 1665 г.) читаем: "Поступило в
продажу наилучшее лекарство от чумы, лихорадки и оспы, изобретенное и
применяемое с огромным успехом знаменитым доктором Джоном Баптистом из
Хельмонта". Непривычные по звучанию, вычурные имена целителей имели особый
успех у публики: "Доктор Стефанус Хризолитус, недавно прибывший сюда после
путешествия по странам, нередко посещаемым чумой, обнаружил на опытах,
прошедших (с Божьей помощью) весьма успешно, что для предотвращения инфекции
следует по утрам есть сушеный изюм, а также изюм "малагу" в вареном и
жареном виде; он сообщает об этом ради общественного блага" ("Ньюз", Э 42).
100 ...травили их вонючими жуткими смесями... - В XVII в. лечебные
средства использовались самые фантастические: целебными считались печень
лягушки, гусиный помет, клешни краба, копыта лося и многое другое. Причем
даже серьезные врачи-профессионалы рекомендовали подчас самые невероятные
снадобья: доктор Ходжес, сомневавшийся в эффективности порошка из рога
единорога, рекомендовал в то же время в качестве лекарства растертую в
порошок сушеную жабу. Доктор Кемп рекламировал свой рецепт: "Возьмите одну
унцию крабьего глаза, унцию жженого оленьего рога, полторы унции черных
кончиков клешней краба; сотрите все это в порошок, добавьте щепотку этой
смеси в горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином, и
принимайте на ночь, запивая тем же напитком, но уже без добавки".
101 ...полкроны. - Крона - золотая монета Франции (XIV-XVII вв.),
Англии (XVI-XVII вв.) и ряда других стран.
102 ...доктора Брукса, доктора Аптона, доктора Ходжеса, доктора Бервика
или любого другого из знаменитых врачей... - Хамфри Брукс, Френсис Аптон,
Натаниэль Ходжес и Питер Барвик (Дефо, пользуясь одним из неточных
источников, называет его Бервик), члены Коллегии врачей (см. примеч. 108);
они оставались в Лондоне и выполняли свои профессиональные обязанности в
течение всей эпидемии. Особого внимания в связи с "Дневником Чумного Года"
заслуживает доктор Ходжес, автор сочинения "Loimologia" (1672), написанного
на латыни и переведенного в 1720 г. на английский Джоном Квинси "Наука о
заразных заболеваниях, или Отчет об истории лондонской чумы 1665 года; с
присовокуплением советов по предохранению от подобной заразы"; материалами
этого труда Дефо пользовался особенно широко.
103 "Абракадабра" - кабалистическое слово и магическая формула,
подразумевающая бесконечность; употреблялась как заклинание; считалось, что,
если носить это слово, написанное в форме треугольника, на шее, оно будет
предохранять от заразы.
104 ...иезуитскую мету на кресте: JHS - сокращение латинской формулы
"Jesus Hominum Salvator" ("Иисус Спаситель человечества").
105 ...незадолго до Михайлова дня... - Теперь день Св. Михаила отмечают
в Англии 29 сентября, раньше Михайлов день отмечали позднее - 10 октября;
именно эта дата, судя по контексту, и имеется в виду.
106 Некоторые, священники поначалу навещали больных, но это длилось
недолго. - У. Николсон оспаривает это утверждение, приводя длинный список
священников, которые исполняли свой долг до конца эпидемии.
107 ...лорд-мэр, набожный и здравомыслящий человек... - Во время чумы
лондонским мэром был сэр Джон Лоуренс, проявивший в этот период и личную
храбрость, и неутомимое трудолюбие.
108 ...велел Коллегии врачей издать указания, какими дешевыми
лекарствами следует пользоваться... - Королевская Коллегия врачей была
основана Томасом Линейкром, врачом Генриха VIII; все известные лондонские
врачи были ее членами. В Чумной Год были изданы две брошюры с "указаниями":
"Указания по предотвращению и лечению чумы 1665 года, с приобщением перечня
дешевых лекарств. Подготовлено Коллегией врачей. По специальному
распоряжению Его Королевского Величества" (май, 1665), а также "Указания по
предотвращению и лечению чумы, предназначенные для бедняков" (1665). Первые
из этих указаний были перепечатаны в "Собрании ценных и редких документов,
относящихся к чуме 1665 года", изданном в 1721 г. книготорговцем Дж.
Робертсом. Материалами этого сборника несомненно широко пользовался Дефо при
создании "Дневника". После публикации "Указаний" многие шарлатаны стали
сопровождать свои снадобья ярлыком "Рекомендовано Коллегией врачей". Однако
и многие из самих указаний вызывали скептическое отношение медиков того
времени. Чего стоит, например, такой совет: "Выщипите перья из хвоста живого
петуха, курицы, цыпленка или голубя; и, крепко зажав птице клюв, прижмите
выщипанным местом к нарыву, язве или затвердению и держите до тех пор, пока
птица не умрет. Таким способом выводится яд". Существенно, что
экспериментальных способов лечения чумы в то время еще не было. Поступки
доктора Джорджа Томпсона, вскрывшего труп погибшего от чумы, или доктора
Уильяма Богхерста, который навещал по 40-50 больных в день и сделал массу
полезных наблюдений о равных стадиях и формах течения болезни, были
единичными исключениями.
109 ...сами врачи угодили к ней в лапы, прямо вместе с
предохранительными пилюлями во рту. - Это отмечает к доктор Кемп в "Кратком
обзоре природы, причин, проявлений чумы и способов предотвращения заразы и
излечения": "Коллегия предлагала свои советы по лечению болезни <...> и,
однако, ни единого средства, чтобы защитить от нее самих врачей".
110 Такова была участь нескольких врачей, среди них были и самые
известные... - Среди известных врачей того времени, погибших от чумы, были
доктора Дей, Старки, Гроувер, О'Дауд и Бернетт.
111 ...не могли спасти тех, у кого уже проступили признаки заразы... -
Т. е. появились черные пятна на коже - признак смертельной формы чумы.
112 Совет олдерменов - то же, что Совет старейшин при Городском совете,
состоящий из мэра и олдерменов.
113 Миддлсекс - графство в Центральной Англии.
114 ...во время чумы 1603 гола... - В Англии периодически возникали
чумные эпидемии. В XVII в. вспышки наблюдались в 1603, 1625, 1636, 1647 гг.;
после эпидемии 1665 г. серьезных вспышек не наблюдалось. В чумную эпидемию
1603 г. погибло 33 417 человек.
113 ...в год вступления на престол Якова I... - Яков I короновался на
английский престол в 1603 г.; до того, с 1567 г., он был королем Шотландии
под именем Якова VI.
116 Банхилл-Филлс - северный пригород Лондона, расположенный неподалеку
от Мурфилдс (см. примеч. 363).
117 Излингтон - северный пригород Лондона, рядом со Сток-Ньюингтоном и
Хэкни. С юга граничит с приходами Шордич и Финсбери, включает Холлоуэй.
118 "Распоряжения <...> в связи с распространением чумной заразы,
1665". - Эти "Распоряжения", опубликованные в числе других документов в
упомянутой выше книге Дж. Робертса "Собрание ценных и редких документов,
относящихся к последней чуме 1665 года", были воспроизведены Дефо буквально;
более того, как справедливо отмечает У. Николсон, их содержание и во многих
других местах "Дневника" варьируется и неоднократно повторяется.
119 Бейлиф - представитель короля, осуществлявший административную и
судебную власть; в те времена бейлифы содержали иногда особые дома, где в
течение ограниченного срока могли держать арестованных, прежде чем отправить
их в городскую тюрьму,
120 ...дать указание констеблю... - Констебль - представитель городской
администрации, в обязанности которого входило следить за порядком в городе,
задерживать мелких правонарушителей, выдворять бродяг согласно закону, и т.
д.; констебли набирались из прихожан, первоначально жалованья они не
получали и могли за свой счет ставить вместо себя заместителей; подчинялись
констебли мировым судьям. Существовали также специальные констебли - эта
должность вошла в обиход в период царствования Карла II; они набирались из
граждан, известных "добрым поведением", и приносили присягу оказывать помощь
обычным констеблям, а в случае необходимости, прибегать к крайним мерам.
121 ...все драпировки спален... - Так как до XVIII в. шторы редко
применялись в интерьере, то у кроватей обычно были пологи; во второй
половине XVII в. в богатых домах были в моде пышные пологи из дорогих
парчовых тканей.
122 ... - могила должна быть не менее шести футов глубиной. - С тех пор
такая глубина могилы считается в Англии обязательной; до этого времени она
могла быть произвольной; фут - единица длины в системе английских мер,
равная 12 дюймам, или 0,3048 м.
123 Наемные кареты. - Пассажирские кареты существовали в Англии со
времен позднего средневековья; в те времена это были громоздкие фуры,
запряженные шестью или восемью лошадьми; они перевозили купцов и других
путешествующих; с середины XVIII в. появились более легкие кареты; кроме
того, в Лондоне при крупных гостиницах содержались каретные дворы, где можно
было нанять экипаж в индивидуальное пользование.
124 ...будет конфискована бидлом... - Бидл - одна из низших должностей
в приходской администрации. На нем лежали обязанности рассыльного или
курьера при приходском собрании, главным образом по делам, связанным с
положением бедняков; кроме того, бидлы присматривали за порядком в церкви во
время богослужения.
125 ...травля медведей... - Со времен средневековья популярное
развлечение на народных праздниках и гуляньях. Медведя сажали на цепь в
середине ямы или круга и спускали на него с полдюжины мастифов. По мере того
как он убивал или ранил собак, их заменяли новыми; и так до тех пор, пока
медведь не был побежден или не был признан победителем. Иногда в развлечении
принимали участие и люди: окружив медведя, пять-шесть человек секли его
розгами, отвлекая на себя его внимание. Особенно популярна эта забава была
при Генрихе VIII, который даже ввел должность королевского медвежатника.
Самый известный из медвежьих садков - Пэрис-Гарденс в Бэнксайде (Саутуэрк) -
был сооружен в 1526 г. Некоторые театры (например, "Лебедь", "Роза",
"Надежда") были построены с расчетом не только на театральные представления,
но и на травлю медведей. Пуритане осуждали эту забаву, она была запрещена
парламентским актом в 1642 г. В эпоху Реставрации травля медведей вновь
вошла в моду и оставалась популярна в течение всего XVIII в.; была запрещена
окончательно в 1835 г.
126 ...пение баллад на улицах... - Долгое время баллады бытовали лишь в
устном исполнении. Любопытно, что первый обширный рукописный сборник
английских и шотландских баллад появился в связи с чумной эпидемией в
северных районах Англии и Шотландии в 1568 г.; спасаясь от нее, Джордж
Беннантайн, торговец из Эдинбурга, уединился в маленькой шотландской
деревушке и на досуге записал известные ему народные песни и баллады,
озаглавив их так: "Записано в ужасный чумный год, / Когда болезнь дала нам
отдых от работ". Рукопись Беннантайна (более 800 листов) сохранилась и в
настоящее время находится в Адвокатской библиотеке в Эдинбурге.
127 ...сборища корпораций... - По английским понятиям, корпорация -
совокупность физических лиц, действующих в силу постановления
государственной власти или закона как одно юридическое лицо.
128 ...распивание напитков в <...> кофейнях... - Кофейни впервые
появились в Лондоне в период революции; в XVII-XVIII вв. они стали очень
популярны как своего рода прообразы клубов в среде дельцов, коммерсантов и
творческой интеллигенции - более всего - людей искусства. В них
разворачивались острые политические дебаты и литературные дискуссии, шел
широкий обмен мнениями и новостями. Особой популярностью в Лондоне XVII в.
пользовались кофейни "Гэррауэйз" (Чейнж-Элли, Корнхилл) - излюбленная
кофейня дельцов, и "Уиллз" (Боу-стрит), "Баттонз" (Рассел-стрит,
Ковент-Гарден), "Греческая" (Эссексстрит, Стренд) - где собирались писатели,
художники, актеры.
129 Шерифы. - Это слово восходит к англ. "shire" - графство и "reeve"
(ист.) - главный магистрат. Шериф назначался на один год обычно из среды
небогатых дворян; его должность потеряла в весе со времен средневековья,
когда, как мы знаем по балладам о Робин Гуде, шериф представлял всю полноту
королевской власти в городе или графстве; однако с течением времени его
служебные обязанности сузились, и за ним осталась в основном лишь
исполнительная власть. В XVII в. шериф отвечал за проведение парламентских
сессий, выборов, заседаний суда, назначение присяжных, приведение в
исполнение судебных приговоров и приказов суда, организацию всякого рода
церемоний. Он имел помощника - младшего шерифа (возможно, этим и объясняется
подпись двух шерифов под распоряжениями лорд-мэра), а также штат чиновников
и судебных исполнителей (ср. ниже в тексте "люди шерифа").
130 ...эти распоряжения были действенны лишь для тех мест, на которые
распространялись полномочия лорд-мэра... - то есть для Сити и прилегающих к
нему слобод; в остальных местах административная власть принадлежала мировым
судьям.
131 ...в так называемых поселках... - Поселками (англ. hamlet) называли
небольшие деревушки, где не было собственной церкви, так что они относились
к приходу другой близлежащей деревни или городка.
132 Сент-Кэтрин, Тауэр - приход с церковью Св. Екатерины при больнице
Св. Екатерины, построенной в 1148 г. королевой Матильдой, супругой короля
Стефана (1135-1154 гг.); в 1825 г. больница была перенесена в Риджентс-парк.
133 Тринити, Минериз - церковь Св. Троицы на улице Минериз, к северу от
Тауэра. Название улицы связано с находившимся там женским монастырем Св.
Клары, монахинь которого называли "минорессами" по аналогии с монахами
ордена Св. Франциска, которых называли Fraters Minores (лат.) - "Братьями
младшими".
134 Сент-Лионард, Шордич - приход с церковью Св. Леонарда, не уцелевшей
до нашего времени; новая Церковь Св. Леонарда была воздвигнута в 1740 г.
Джорджем Дэнсом Старшим.
135 Сент-Ботольф, Бишопсгейт - приход с церковью Св. Ботольфа; от
старой церкви уцелели лишь кафедра, орган да могильные плиты; новая церковь
была построена в 1741-1744 гг. Дж. Дэнсом Старшим. В старой церкви Св.
Ботольфа в январе 1684 г. венчались Даниэль Дефо и Мэри Таффли.
136 Сент-Джайлс, Крипплгсйт. - Эту церковь, также посвященную Св.
Эгидию, не следует путать с церковью Св. Эгидия на полях (см. примеч. 9).
137 Хаундсдич (букв.: Собачий ров) - улица, шедшая от Олдгейтских ворот
в северо-западном направлении вдоль границы Сити; она была проложена на
месте рва, примыкавшего к городской стене. С XVI в. эта улица была местом
торговли подержанным платьем.
138 ...к аптекарю за примочками... - Общество фармацевтов было основано
в 1617 г. (до того аптекари состояли в одной корпорации с зеленщиками); оно
имело монополию на скупку и продажу лекарств в лондонском Сити. Во время
чумы 1665 г., когда многие врачи покинули Лондон, именно на аптекарей лег
основной груз лечения больных.
139 Коулмен-стрит - улица угольщиков, идет к северу от восточного конца
Грешем-стрит.
140 Уайт-Элли <...> Белл-Элли - Белый переулок, Колокольный переулок,
примыкают к Коулмен-стрит (см. примеч. 139).
141 ...суровость заточения доводила людей до отчаяния, заставляла
стремиться выбраться из своих домов любой ценой... - В анонимной брошюре
"Серьезное обсуждение практики запирания зараженных домов в Англии" (1665),
прекрасно известной Дефо, обнаруживаются почти текстуальные совпадения с
этим местом "Дневника": "Как только мы сами или члены нашей семьи
заразились, столь страшна для нас мысль оказаться лишенными свежего воздуха,
удовольствия общения, свободы передвижения, забот врачей и священников, не
иметь возможности увидеться с друзьями и родственниками, а подчас и
нуждаться в самом необходимом, - что мы устремляемся по улицам и за город,
насколько позволяют силы, оставляя жен и детей на попечение прихода, пустые
дома и лавки кредиторам, распространяя заразу по улицам на своем пути и
перенося ее вместе с собою из дома в дом, до тех пор пока мы не свалимся в
каком-нибудь переулке, в поле или в соседней деревне, зовя на помощь и
потрясая людей внезапностью своей смерти".
142 ...на Трогмортон-стрит, выходящей фасалом на Дрейперс-Гарденс. -
Видимо, имеется в виду не теперешняя Трогмортон-стрит, а улица, которая в
настоящее время носит название Трогмортон-авеню, так как именно она
примыкает к Дрейперс-Гарденс.
143 Я знаю историю двух братьев и их родственника... - Реальная
история, послужившая, вероятно, основой для этого рассказа (см. статью),
повествует о том, как беженцы поселились в полях, в сарае, где их позднее и
нашли мертвыми, после чего сарай сожгли вместе с трупами.
144 Шэдуэлл - район чуть восточнее Уоппинга на берегу Темзы.
145 Церковный сторож - одна из мелких церковных должностей,
предполагавшая исполнение самых равных обязанностей: дьячка, пономаря,
могильщика, а иногда и церковного служки.
146 ...фонари со свечами внутри, установленные по краям ямы, горели всю
ночь... - В то время улицы Лондона освещались именно такими фонарями;
несколько позднее, в 1685 г., Эдуард Хэмминг, получив патент на
исключительное право освещения Лондона, ввел в обиход лампы, которые
благодаря очень толстым выпуклым стеклам давали значительно больше света.
Лампы эти горели с Михайлова дня (см. примеч. 105) до Благовещенья; зажигали
их в шесть часов вечера и вновь тушили в полночь, но не в течение всего
месяца, а с третьего дня после полнолуния и до шестого дня после появления
новой луны.
147 ...с таким отчаянием в мыслях, что его невозможно и описать. -
Характерная черта стиля Дефо: при скрупулезно точных и подробных описаниях
материального мира, он, как правило, уклоняется от пластического описания
душевного состояния героя (ср. в "Робинзоне": "нет слов передать, как
страшно было его лицо", "я не способен описать, как потрясена была душа моя"
или в "Молль Флендерс": "и описать невозможно, как жутко мне стало", "легче
представить себе, чем выразить словами, каковы были теперь мои чувства").
148 ...заворачмвала с Хэрроу-Элли в Мясной ряд... - Мясной ряд
находится восточнее Уайтчепла, переулка с названием Хэрроу-Элли (Косой) в
настоящее время рядом с ним не сохранилось, хотя в полутора милях от него
есть переулок с аналогичным наменяем - Хэрроу-Лейн.
149 ...слова Иеремии (глава 5, стих 9). - Библия, книга хорошо
известная самым широким кругам читателей Дефо, - практически единственный
источник аллюзий и сравнений в его романах. В целом же для стиля Дефо не
характерно обилие тропов. В одном из номеров "Обозрения" Дефо заявляет:
"Если вы считаете, что сравнения и аллюзии необходимы для понимания, то есть
что затемненный, двусмысленный способ говорения лучше откроет глаза
беднякам, - я для вас не подхожу. Если эта газета перестанет писаться
простым английским языком, можете считать, что я ушел из нее" ("Обозрение",
VII, 192).
150 Повторяю... - Тавтологичность изложения была сознательной
эстетической установкой Дефо, о чем он неоднократно писал в "Обозрении":
"Что до меня, то мне очень важно дать пищу для размышления прямодушному, но
невежественному читателю <...> именно ради этого я и пишу; именно ради него
я задерживаюсь подчас на какой-либо теме дольше, чем того требуют законы
хорошего слога, именно ради него я повторяюсь вновь и вновь, неоднократно
цитируя самого себя" ("Обозрение", IV, 199). Или в другом случае: "Разрешите
сказать, джентльмены, что только важность предмета заставляет меня так,
можно сказать, до неприличия долго повторять и повторять это наставление"
("Обозрение", IX, 267). В "Дневнике" тавтологичность особенно заметна и
является одной из черт индивидуального стиля рассказчика. Согласно
наблюдениям У. Николсона, о последствиях запирания домов говорится в 10
разных местах "Дневника", о жертвах болезни, взывающих к прохожим из окон и
выбегающих нагишом прямо на улицу, упоминается 16 раз, о неточностях
еженедельных сводок смертности - 13 раз, о хорошей работе мэра и магистрата
- 21 раз; однако все это не буквальные повторения: каждый раз что-то
повторяется, но появляются новые сведения, новые детали, обогащающие знание
читателя.
151 ...при Тауэре и Уайтхолле... - Тауэр - старинная крепость на Темзе;
ее строительство было начато в XI в. Вильгельмом Завоевателем. В разное
время использовался как королевская резиденция, тюрьма для государственных
преступников, монетный двор. Среди знаменитых узников Тауэра можно назвать
Томаса Мора, Уолтера Рэли, архиепископа Лода, леди Джейн Грей, Анну Болейн и
Елизавету I до того, как она короновалась на царство. Государственных
преступников обычно вводили через Трейторс-Гейт (Ворота изменников),
находящиеся в башне Св. Фомы; казни производились и на Тауэр-Хилл, и в самом
Тауэре. Уайтхолл - дворец кардинала Уолси, который тот вынужден был уступить
Генриху VIII в первой половине XVI в., и по 1689 г. - главная королевская
резиденция в Лондоне. Название Уайтхолл стало общераспространенным лишь в
царствование Якова I, когда знаменитый архитектор Иниго Джонс задумал новый
дворец - из этого плана была осуществлена в 1619-1622 гг. лишь постройка
Банкуэтинг-хауса (букв.: дома для приемов); в 1698 г. старое тюдоровское
здание дворца было уничтожено пожаром почти полностью. Перед этим дворцом
казнили Карла I. Уайтхолл расположен на одноименной улице в центре Лондона,
на которой в настоящее время находятся некоторые важнейшие министерства и
другие правительственные учреждения.
152 ...созывать милицию... - Имеются в виду воинские части, состоящие
из гражданского населения, а не профессиональных военных; в мирное время они
проходят службу лишь путем кратковременных учебных сборов. Тремя Актами о
милиции (1661-1663 гг.) милиция переходила в подчинение не парламента, а
короля, и контроль над нею передавался главе исполнительной власти графства.
153 Олдерсгейт-стрит - улица в Сити, идущая в северном направлении
перпендикулярно Ньюгейт-стрит; с северного конца переходит в Госуэлл-стрит.
154 ...пинту подогретого эля. - Эль - светлое и довольно легкое пиво;
пинта - английская мера жидкости, равная 1/8 галлона, или 0,57 литра.
155 ...включая приходы за городскими стенами... - К "приходам за
городскими стенами" относились 16 приходов, непосредственно примыкающих к
стенам Сити: Сент-Эндрюс, Холборн; Сент-Бартоломью Большой; Сент-Бартоломью
Малый; Сент-Брайдс; Брайдуэллский придел; Сент-Ботольф, Олдерсгейт;
Сент-Ботольф, Олдгейт; Сент-Ботольф, Бишопсгейт; Сент-Дунстан Уэст;
Сент-Джордж, Саутуэрк; Сент-Джайлс, Крипплгейт; Сент-Олав, Саутуэрк; Святого
Спасителя, Саутуэрк; Святого Гроба Господня, Саутуэрк; Сент-Томас, Саутуэрк;
Тринити, Минериз.
156 ...в <...> городе существовал лишь один чумной барак <...> за
Банхилл-Филдс... - На самом деле в городе было два чумных барака: на
Банхилл-Филдс и в Вестминстере (см. примеч. 116 и 41); трижды на протяжении
книги Дефо утверждает, что барак был один, и один раз дает правильную
информацию.
157 ...двух подмастерьев... - В средневековой Англии (с XIII в.)
подмастерья, или ученики, поступали в обучение к мастеру по гильдиям; срок
обучения был семилетним; срок этот был установлен парламентским актом 1563
г., и лишь в 1814 г. парламент разрешил заниматься торговлей и ремеслом без
обязательного периода ученичества.
158 ...вел свои записи, помечая все, что ежедневно со мною случалось,
на основе которых впоследствии я написал большую часть сего труда... -
Эксплицитно выраженное подтверждение того, что роман не является "дневником"
в буквальном смысле, а лишь мемуарами, написанными при использовании
дневника. Не менее изощренную повествовательную форму Дефо использует и в
"Молль Флендерс": там некто "автор" (см. "Предисловие автора") предлагает
читателям свою обработку "мемуаров" героини романа.
159 Записал я и еще одни размышления - на темы божественные... - Не
исключено, что подобное упоминание имело целью создать "зацепку" для
возможного продолжения книги, так как сходным образом Дефо поступил с
"Робинзоном": сразу же после сенсационного успеха первой части Дефо
выпускает вторую - "Дальнейшие приключения Робинзона Крузо", - а за нею и
третью - "Серьезные размышления в течение жизни и удивительных приключений
Робинзона Крузо, с присовокуплением его видения ангельского мира", в которую
включил всякого рода душеспасительные рассуждения героя, якобы пришедшие ему
в голову во время его пребывания на острове.
160 ...доктор по фамилии Хитт... - Хотя сам персонаж явно вымышленный,
однако, как отмечает У. Николсон, фамилия Хитт - сэр Роберт Хитт, верховный
судья при Карле I, - встречается в книге о Коллегии врачей (1684 г.
издания), которая находилась в библиотеке Дефо.
161 ...наварил столько пива, сколько поместилось в имевшихся у меня
бочонках... - Пиво - наиболее широкоупотребительный в Англии алкогольный
напиток. Исходя из производства пива и эля, было подсчитано, что к 1684 г.
каждый житель Англии, включая женщин и детей, потреблял по пинте пива в
день; однако считалось, что это очень заниженный расчет, составляющий, быть
может, лишь 30% реального потребления.
162 ...сделал запас подсоленного масла и чеширского сыра... - Долгое
время сливочное масло в Англии употреблялось прежде всего как лечебное и
косметическое средство, а не просто в пищу. Его обычно делали весной или
летом и сохраняли в подсоленном виде. "Майское масло" особенно
рекомендовалось детям при невралгических и ревматических болях, а также при
запорах. В XVII в. масло все еще считалось "пищей простонародья", как писал
в 1655 г. Томас Маффет; лишь в XVIII в, его стали широко использовать в
готовке и мазать на хлеб. Чеширский сыр - сорт твердого сыра, который
производился в графстве Чешир.
163 Майл-Энд - восточный пригород Лондона; Уайтчепл-роуд переходит в
Майл-Энд-роуд.
164 То человек упадет замертво прямо посреди рынка... - О таких случаях
текстуально близко пишет в своем "Кратком обзоре..." доктор Кемп, переживший
лондонскую чуму; "Прямо во время занятий домашним хозяйством, или торгуя на
рынке, или за церковной молитвой [люди] внезапно падали замертво <...>
многие врачи описывали такие случаи и, возможно, сами наблюдали их в
Лондоне".
165 Сент-Джарджис-Филдс - район в западной части Саутуэрка, граничит с
Ламбетом; название связано с находящейся поблизости церковью Св. Георгия.
166 ...Вудс-Клоуг около Излингтона. - Это название сохранилось и поныне
(см. также примеч. 117).
167 Лоттбери - район в северной часта Сити, поблизости от Уэст-Чипа и
Корнхилла.
168 ...терял сознание и испускал дух. - О сходном течении этой
разновидности чумы писал 20 сентября 1665 г. Джон Эллин, проповедник, химик
и астроном, своему другу Филипу Фитту: "Если инфекция попадала в организм
через дыхание, она немедленно поражала сердце - скопище жизненных духов - и
убивала, прежде чем появлялись внешние общеизвестные признаки болезни -
пятна или припухлости, - причем смерти предшествовал глубокий обморок".
169 ...рассказывали массу страшных истории о сиделках и сторожах... -
Дефо, вернее его герой, в этой части своего повествования значительно
смягчает единодушные свидетельства того времени о жестокости сиделок,
которых больные боялись подчас не меньше, "чем самой Смерти". Доктор Ходжес
писал о них: "Эти несчастные в алчном нетерпении ограбить мертвецов нередко
душили своих подопечных, сваливая удушье на болезнь горла; другие потихоньку
подбрасывали чумную заразу от болячек больных здоровым членам семейства, и
ничто не могло воспрепятствовать этим отпетым злодейкам удовлетворять свою
алчность любыми доступными им средствами; одна из таких, когда она покинула
дом, где все умерли, нагруженная краденым добром, упала, мертвая, вместе с
ношей прямо на улице. А был еще один удивительный случай: весьма почтенный
горожанин, которого сиделка, сочтя умирающим, ограбила и раздела донага,
однако выздоровел и вновь явился свету в чем мать родила".
170 ...их следовало бы скорее повесить для острастки других... -
Любопытно, что эта фраза буквально совпадает с фразой из "Робинзона Крузо",
относящейся, правда, не к людям, а к воронам, клюющим посевы: "Я <...>
поступил с ними, как поступают у нас в Англии с отъявленными ворами, а
именно: повесил их для острастки других". В Англии казнили смертной казнью
через повешение даже за мелкое воровство, причем трупы казненных воров в
назидание другим оставляли на виселице (этот обычай существовал до 1834 г.).
В 1613 г. Эдуард Коук, верховный судья, председатель отделения Королевской
скамьи Высокого суда, человек довольно суровый, писал: "Что за жуткое
зрелище - видеть стольких христиан, мужчин и женщин, вздернутыми на этой
проклятой виселице; их столько, что если бы можно было собрать всех,
подвергнутых этой безвременной и позорной смерти в Англии за один только
год, то у наблюдающего, будь в нем хоть капля благоговения и сострадания,
сердце надорвалось бы от жалости и сочувствия".
171 ...когда о положении таких людей или семейств докладывали
лорд-мэру, им всегда помогали. - Еще в 1603 г. в Англии был принят закон о
бедных, согласно которому был разработан ряд мер по облегчению положения
неимущих слоев населения. Мэр или мировой судья назначали в каждый приход
попечителей по призрению бедных, в обязанности которых входило помогать
неимущим и престарелым, собирать налог на бедных, трудоустраивать сирот, а
злостных бродяг и других бездельников "сечь плетьми по голой спине, пока не
проступит кровь".
172 Суон-Элли - Лебяжий переулок, между Госуэлл-стрит, в той ее части,
что ближе к Олд-стрит и Сент-Джон-стрит.
173 ...я решил, что сейчас не время для особой строгости и жестокости;
кроме того, мне пришлось бы вступить в обучение с людьми, о состоянии
здоровья которых я не имел ни малейшего понятия... - Прием, обычный для
творческой манеры Дефо: сначала герой выдвигает аргументацию,
облагораживающую его поведение, а затем, как бы невзначай, обнаруживается
эгоистическая подоплека.
174 ...Джон Хейуорд <...> был помощником церковного сторожа в приходе
Сент-Стивен, Коулмен-стрит. - Как установил Ф. Бастиан, исследователь
творчества Дефо, Джон Хейуорд - лицо историческое. В приходской книге
Бастиан обнаружил запись о смерти некоего Джона Хейуорда, могильщика, 5
октября 1684 г. А утверждение Дефо ниже в тексте, что он прожил еще двадцать
лет после окончания эпидемии, подтверждает выводы Бастиана. Сент-Стивен,
Коулмен-стрит - один из приходов Сити с церковью Св. Стефана (не путать с
приходом Сент-Стивен, Уоллбрук).
175 Уайт-Хорз-Элли. - Вероятно, имеется в виду Уайт-Хорз-Лейн,
переулок, идущий параллельно Майл-Энд-роуд (см. примеч. 163).
176 ...история с волынщиком... - У. Николсон полагает, что на создание
этого эпизода могли натолкнуть Дефо строки из поэмы Уильяма Остина "Анатомия
чумы 1665 года".
177 Маунт-Милл - место неподалеку от Финсбери-Филдс (см. примеч. 280).
178 ...никогда еще город <...> не оказывался до такой степени не
подготовленным к этому ужасному испытанию <...> лорд-мэр и шерифы не сделали
запасов провизии <...>, не предприняли никаких мер. чтобы облегчить
положение бедняков. - Это, пожалуй, единственное место, где повествователь
критикует городские власти за плохую организацию, и оно противоречит многим
другим местам "Дневника", например, несколькими страницами ниже читаем: "Но
лорд-мэр, Совет олдерменов в Сити и мировые судьи в пригородах вели себя так
осмотрительно, озаботились получить столько денег со всех концов страны, что
им удалось сохранить спокойствие среди бедняков и облегчить их положение
насколько возможно".
179 Гилдхолл - здание ратуши лондонского Сити (построено в 1411 г.), в
нем проходили заседания суда присяжных. Интерьер здания пострадал во время
Великого лондонского пожара, но был восстановлен; в 1788-1789 гг. здание
было перестроено.
180 Леденхолл. - Название восходит к старинному зданию со свинцовой
крышей (англ. leaden - свинцовый) на углу Грейс-Черч-стрнт; там находился
рынок, где торговали мясом, битой птицей и дичью.
181 Биржа. - Имеется в виду Королевская биржа в Сити, которая была
основана в 1566 г. сэром Томасом Грэшемом (1519-1579), выделившим деньги на
ее строительство. Здание во фламандском стиле, окруженное с двух сторон
колоннадами, между которыми размещалось более сотни мелких лавочек,
пострадало во время Великого лондонского пожара. Вновь отстроенное здание
было вторично уничтожено пожаром 1838 г. Современное здание Биржи
представляет собой постройку 1842-1844 гг.
182 Ладгейт - название старых западных ворот лондонского Сити,
традиционно связывавшееся с именем короля Луда, хотя современные
исследователи полагают, что оно восходит к др. англ, "ludgeat" - задняя или
боковая дверь. Здание при воротах использовалось как долговая тюрьма для
дворян (должников из среднего и низшего сословий посылали во Флитскую
тюрьму).
183 Ньюгейт - т. е. Новые ворота, главные западные ворота лондонского
Сити, названные так, вероятно, потому, что они были построены на месте
ворот, существовавших еще со времен римского завоевания. В здании при
воротах с XII в. размещалась тюрьма, которая неоднократно расширялась и
перестраивалась. Тюрьма была сожжена в 1780 г. во время антипапистского
бунта лорда Гордона, затем вновь отстроена и окончательно снесена в 1902 г.
Сейчас на ее месте стоит здание Центрального уголовного суда Олд-Бейли. Дефо
неоднократно обращался в своем творчестве к описанию уголовного мира
("История пиратства", 1724-1728; "История удивительной жизни Джека
Шеппарда", 1724; "Правдивый рассказ о жизни и деяниях Джонатана Уайлда",
1725, и др.); особенно подробно Ньюгейтская тюрьма описана в романе "Молль
Флендерс".
184 Монумент - колонна, воздвигнутая в Сити в 1671-1677 гг. в память о
Великом лондонском пожаре (архитектор Кристофер Рен); считается, что ее
высота - 61,5 м - равна расстоянию от Монумента до лавки пекаря на
Пуддинг-стрит, где начался пожар; винтовая лестница в 311 ступеней ведет на
смотровую площадку; на пьедестале изначально была надпись, обвинявшая в
пожаре римско-католическую церковь.
185 Флитская канавка. - Речь идет о реке Флит, бравшей свои истоки в
Хэмпстеде, текшей на юг вдоль Фаррингдон-роуд и впадавшей в Темзу там, где
теперь находится мост Блэкфрайерс (которого в те времена еще не было).
Верховья реки назывались Хоул-Бурн (отсюда Холборн и Холборнский мост). Еще
в XVI в. корабли могли подниматься вплоть до Холборнского моста. К. Рен,
согласно своему плану реконструкции Лондона после пожара, предложил
превратить Флит в канал вплоть до Холборнского моста. В 1765 г. река была
взята в трубу.
186 Вифлеемский госпиталь, или Беллам. - Изначально это был госпиталь
Девы Марии Вифлеемской (основан неподалеку от Бишопсгейтс в 1247 г.); после
упразднения монастырей госпиталь перешел к светским властям Лондона; с 1547
г. стал функционировать как Вифлеемская королевская больница для
умалишенных; долгое время была открыта для любопытных, рассматривающих
посещение ее как развлечение. В 1675 г. перенесена в Мурфилдс, в 1815 г. -
на Ламбет-роуд, с 1930 г. находится неподалеку от Кройдона.
187 Король <...> распорядился еженедельно выдавать тысячу фунтов... -
Одно из немногих мест "Дневника", не подтвержденных историческими
документами; исследователи считают эту цифру сильно завышенной.
188 ...от чумы в течение года умерло сто тысяч человек, в то время как,
согласно сводкам, их было 68 590. - Согласно официальным сводкам, общая
цифра погибших от чумы была 68 596 человек (при общем населении Лондона к
тому времени в 460 000 человек); однако современный "Словарь общественной
жизни Великобритании" в статье "Чума" указывает число погибших в 100 000
человек.
189 ...деревенские обычно делали яму на некотором расстоянии от
мертвеца <...> подтаскивали тело <...> и издалека забрасывали землей, -
Газета "Ньюз" (Э 79) от 23 сентября 1665 г. сообщает о еще более радикальном
способе разделаться с мертвым телом. В ней говорится о человеке, сбежавшем
из Лондона и "умершем предположительно от чумы в миле от города после
четырехдневной болезни; тогда шалаш, в котором он лежал, заколотили досками
сверху и снизу, вырыли яму и похоронили его вместе с шалашом".
190 Бетнал-Грин - в то время деревня к востоку от Лондона, отделенная
от города полями.
191 Хэкни - северо-восточный пригород Лондона; когда-то здесь жили
рыцари-тамплиеры; после секуляризации монастырей земли перешли шестому
герцогу Нортумберленду.
192 ...каким опустелым и заброшенным стал тогда город. - Близкое
описание лондонских улиц помещено в книге Томаса Винсента "Грозный глас
Господен в столице" (1667), которая была хорошо известна Дефо: "В августе
люди падали, как листья на деревьях в осеннее время <...> и улицы Лондона
стали мрачными и пустынными <...> Лавки закрыты, люди редко и помалу выходят
на улицы, - настолько редко, что кое-где сквозь булыжники пробилась трава,
особенно на улицах внутри городских стен; ни скрипа колес, ни звона подков,
ни голосов покупателей, ни криков продавцов, предлагающих свой товар,
короче, никаких привычных лондонских криков; а если что и нарушает тишину,
так лишь стоны умирающих людей и похоронный звон по тем, кого сейчас положат
в могилу".
193 ...одной из широчайших в городе (учитывая также улицы в пригородах
и слободах)... - В старом городе, разумеется, были самые узкие улочки,
сохранившиеся со времен средневековой застройки. Заново отстроенный после
пожара, Сити стал значительно просторнее.
194 Соломон Игл - лицо историческое; это был сумасшедший фанатик-квакер
(см. примеч. 366), изображенный впоследствии в романе английского писателя
Уильяма Эйнсворта (1805-1882) "Старый собор Св. Павла".
195 ...самым устрашающим образом грозил Божьей карой всему городу. - О
том, что квакерам было свойственно подобное проповедническое рвение,
свидетельствуют газеты несколько более поздней поры. Так, "Лондон пост" от
15 января 1700 г. сообщала: "Сегодня один квакер подошел к Королевской бирже
в самый разгар рабочего дня, расположился у памятника Карла II, и там на
него снизошел Святой Дух, повелевший ему изречь следующее: "Я послан великим
Господом нашим, возвестить Его волю сему великому городу: коли жители его не
покаются в ближайшее время в грехах своих, Его кара не замедлит
последовать"". Та же газета сообщала позднее: "Лондон. 28 января 1701 года.
Сегодня, около 3-х часов дня, женщина из секты квакеров взобралась на
огромный камень у Флитского моста и угрожала городу горем, если его жители
не покаются в самое ближайшее время".
196 ...отнести письмо брату на почту. - В те времена почта разносилась
мальчиками-рассыльными или развозилась на лошадях, с 1784 г. стали
курсировать первые почтовые кареты. Письма оплачивал адресат. Почтовые
расходы были довольно велики и зависели от веса письма и расстояния. Оплата
писем, курсировавших в пределах Лондона, была унифицирована и составляла в
XVII в. один пенс, а в XVIII в. - два пенса. Готовых конвертов не было.
Вместо конверта письмо закладывалось в лист белой бумаги, который ради
экономии тоже часто исписывался изнутри, и запечатывалось сургучом.
197 ...сколько-то медных фартингов. - Фартинг - самая мелкая английская
монета, равна 1/4 пенса; с 1968 г. изъята из обращения.
198 Боу - местечко неподалеку от Лондона, названное так по арочному
мосту в форме лука (англ. "bow"), сооруженному через реку Ли в XII в. Оно
получило известность в XVIII в. благодаря производившемуся здесь фаянсу.
199 Бромли - небольшой городок в графстве Кент, в 10-ти милях к
юго-востоку от Лондона.
200 Поплар - один из бедных районов лондонского Ист-Энда; в наст, время
вошел в район Тауэр-Хемлетс.
201 Гринвич - во время описываемых событий небольшой городок на Темзе
южнее Лондона; в настоящее время - пригород Лондона.
202 Вулидж - во времена Дефо городок на Темзе в 10-ти милях ниже
Лондона (в настоящее время - часть Лондона); там размещались военно-морские
базы со времен Генриха VIII.
203 ...на Кентской стороне... - Своими предместьями Лондон уходил в
четыре окружавшие его графства: на левом, северном, берегу Темзы это были с
востока Эссекс, с запада - Миддлсекс; на правом, южном, берегу Темзы с
востока - Кент, с запада - Сарри.
204 ...к Детфордскому мосту... - Детфорд - южный пригород Лондона, где
Генрих VIII соорудил военно-морские базы; в 1698 г. в Детфорде учился
судостроительству Петр I.
205 Лаймхаус - Лаймхаусский участок лондонских доков - один из
беднейших районов Лондона во времена Дефо.
206 Редрифф - то же, что Роттерхитт (см. примеч. 58).
207 ...по Заводи. - Лондонская заводь - название участка Темзы ниже
Лондонского моста - единственного моста через Темзу в Лондоне вплоть до 1749
г. Здесь обычно располагались на стоянку корабли, пришедшие в Лондон (см.
также авторское пояснение в сноске на с. 306).
208 Сент-Маргерит, Бермондси - церковь Св. Маргариты в Бермондси,
районе на южном берегу Темзы восточнее Саутуэрка.
209 ...в сторону Сарри... - см. примеч. 203.
210 Норвуд - северо-восточный пригород Лондона.
211 Кэмберуэлл - в те времена южный пригород Лондона, в настоящее время
- один из жилых районов города.
212 Далледж - живописный пригород южного Лондона.
213 Лихтер - несамоходное судно для перевозки грузов, впервые
появившееся в Голландии.
214 Смэк - небольшое парусное судно вытянутой формы (этимологически
название восходит к англ. snake - змея), используемое для береговой
торговли, прежде всего для рыботорговли.
215 Умершие при ролах - 189; выкидыши и мертворожденные - 458 - один из
редких случаев, когда цифры, приведенные в "Дневнике", не совпадают с
официальными данными, где значится: "Умершие при родах - 250; выкидыши и
мертворожденные - 503". Возможно, Дефо сознательно приуменьшил цифры, чтобы
разница между 1664 и 1665 гг. была более разительной.
216 "Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет
бедствие на земле и гнев на народ сей" - евангельская цитата (Лука, 21:23).
217 Я мог бы рассказать ужасающие истории о детях, сосущих грудь уже
умерших от чумы матерей... - слегка переиначенная фраза из труда доктора
Ходжеса: "Смерть была всесильной повитухой, и дети прямо из чрева матери
отправлялись в могилу. У кого сердце не надорвется с печали видеть, как
дети, цвет грядущего поколения, припадают к грудям уже умерших матерей?"
218 ...сами умирали, а дети, ради которых эти любящие сердца приносили
себя в жертву, выздоравливали и спасались. - Сэмюэл Пепис (см. примеч. 97) в
своем дневнике от 3 сентября 1665 г. записал: "В числе других историй была
одна очень, мне кажется, трогательная: о возмущении жителей города [речь
идет о Гринвиче] поведением человека, взявшего к себе ребенка из зараженного
лондонского дома. Олдермен Хукер расскаэал мне, что ребенок этот был сыном
очень достойного человека, шорника с Грэшиоус-стрит, который схоронил всех
остальных своих детей за время чумы. Теперь они с женой были оба заперты в
доме и, не имея никакой надежды спастись самим, мечтали лишь о спасении
этого единственного младенца; им удалось передать его, совершенно голеньким,
в руки друга, а тот одел его во все новое и привез в Гринвич; когда все
узнали эту историю, было решено разрешить оставить ребенка в городе".
219 Ист-Смитфилд. - Смитфилд (ист.) - большой пустырь за городской
стеной у северо-западной границы Сити; название восходит к англ. "smooth
field" - "ровное поле". Здесь в 1381 г. произошла встреча Ричарда II с
Уоттом Тайлером, во время которой последний был предательски убит мэром
Лондона. В XVI в. на этом поле сжигали еретиков; позднее там был разбит
большой рынок.
220 Барнет - небольшой городок в 11-ти милях к северо-западу от
Лондона.
221 Я согласен с прокаженным из Самарии: "Если останемся здесь.
наверняка умрем". - Обнаружить источник этой библейской аллювии не удалось;
возможно, Дефо допустил здесь неточность.
222 ...парус от брам-стеньги... - Брам-стеньга - третий ярус мачты;
мачта состоит из нескольких составных частей: собственно мачты, ее
продолжения - стеньги, третьего яруса - брам-стеньги. Вершина каждой части
мачты называется топ; у мест соединения каждого яруса мачты расположены
площадки: у топа мачты - марс, вокруг топа стеньги - салинг, вокруг топа
брам-стеньги - бом-салинг.
223 Ратклифф-Кросс. - Слово "Кросс" в английских топонимах указывает на
то, что здесь есть или был когда-то перекресток. Иногда в таких местах
действительно стояли придорожные кресты.
224 Олд-Форд - местечко севернее Лондона неподалеку от Барнета.
225 ...Святого Гроба Господня... - Церковь Святого Гроба Господня была
основана крестоносцами в XII в. и с тех пор неоднократно перестраивалась; с
1605 по 1890 г. колокол церкви звонил в день казни по каждому узнику
Ньюгейтской тюрьмы, приговоренному к смерти. А когда телега с осужденными
направлялась к месту казни - Тайберну, - у церкви Гроба Господня каждому
приговоренному давали платок, которым тот обычно прикрывал лицо перед
казнью.
226 ...у макушки Стэмфордского холма - т. е. неподалеку от
Сток-Ньюингтона (см. примеч. 230).
227 Хайгейт - во времена Дефо местечко к северу от Лондона (в настоящее
время вошел в черту города); расположен на холме, откуда открывается
великолепный вид на город и его северные окрестности.
228 Холлоуэй - в те времена местечко в северной части Излингтона. В
елизаветинскую эпоху Холлоуэй был излюбленным местом состязаний в стрельбе
из лука.
229 Хорнси - в те времена местечко к северу от Лондона неподалеку от
Холлоуэя.
230 Ньюингтон (полн.: Сток-Ньюингтон) - во времена Дефо пригород
Лондона, расположенный к северо-востоку от Излингтона. Многое связывает это
место с биографией самого Дефо. Здесь во второй половине 1670-х годов он
учился в "Академии" преподобного Чарлза Мортона (в Ньюингтон-Грин). Жена
Дефо Мэри Таффли была родом из этих мест; здесь в 1705 г. была крещена их
старшая дочь София, и здесь же позднее была похоронена другая их дочь. С
1709 г. Дефо поселяется в Ньюингтоне: сначала снимает дом на северной
стороне Сток-Ньюингтон-Черч-стрит, потом строит собственный дом, который
сохраняет за собой до конца жизни. В этом доме был написан "Робинзон Крузо"
и многие другие его произведения. Могильная плита с кладбища в
Банхилл-Филдс, стоявшая на его могиле до того, как ее сменил горделивый
мраморный обелиск, воздвигнутый на ее месте в 1870 г., в настоящее время
находится у входа в Сток-Ньюингтонскую библиотеку.
231 ...до Эппингского леса... - Этот лес был когда-то частью огромного
массива Эссекского леса; излюбленное место королевской охоты; долгое время
подвергался расхищению и уничтожению, которому был положен конец в 1871 г.
изданием специального Акта Зппингского леса; к этому времени от него
осталось 5600 акров. Эппинг - торговый город в Эссексе, в 18-ти милях к
северо-востоку от Лондона.
232 ...однако сделал это он, кажется, по прошествии не менее восьми
дней. - Нередко Дефо, как, например, в данном месте, не выдерживает законов
повествовательной формы. Такую фразу мог бы написать Филдинг, занимавший
обычно позицию всеведущего и вездесущего автора. Но ни участники этого
вставного рассказа, переправившиеся через реку и никогда больше не видевшие
лодочника, ни тем более основной рассказчик, шорник Г. Ф., не могли знать о
том, когда именно лодочник пришел забрать лодку.
233 Уолтэмстоу - в те времена городок в двух милях от Эппинга и в 10-
12-ти милях к северо-востоку от Лондона.
234 Брентвуд - небольшой городок в графстве Эссекс, в 18-ти милях к
северо-востоку от Лондона; название восходит к англ. "burnt wood" -
"сожженный лес", на месте которого когда-то возник город.
235 ...Какой совет дал им судья, я не знаю... - другой пример
невыдержанности авторской позиции: почему-то известно, когда лодочник
вернулся за лодкой (см. примеч. 232), но не известно, что сказал судья.
Странная форма повествования избрана и далее: драматизированный диалог,
сопровождаемый авторскими примечаниями.
236 ...это не королевская, а платная дорога... - Система дорожных
пошлин в Англии (Turnpike System) была введена согласно указу 1663 г. и
состояла во взимании пошлин за проезд у каждой заставы (Turnpikegate).
Деньги от этого налога тратились на ремонт дорог, и действительно, состояние
английских дорог после введения системы дорожных пошлин значительно
улучшилось. Количество застав быстро росло: к середине XVIII в. они
контролировали уже более 2100 миль проезжих дорог.
237 ...около двух бушелей... - Бушель - мера объема жидкостей и сыпучих
веществ в системе английских мер, равен 36,4 дм3.
238 ...глиняную посуду... - Производство фарфора началось в Европе лишь
в XVIII в., а до того посуда была глиняной, деревянной либо металлической. В
конце XVII - начале XVIII в. в Англии особенно распространяется производство
фаянса.
239 ...в Уолтэм-Эбби, с одном стороны, и в Ромфорде и Брентвуде - с
другой, подбирается также к <...> Вудфорду... - Вудфорд - небольшой городок
на север от Сток-Ньюингтона, Уолтэм-Эбби находится северо-западнее, а
Ромфорд и Брентвуд - юго-восточнее него.
240 ...им пришлось съесть, подобно древним израильтянам, в слегка
поджаренных зернах, а не намолоть и выпечь хлебы. - Такой способ
употребления злаков не раз упоминается в Библии, например: "...и пшеницы, и
ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен <...> принесли
Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу" (Вторая Книга Царств, 17: 28-29), или:
"Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того
дня, в который принесете приношения Богу вашему..." (Левит, 23: 14).
241 Хардфордшир - юго-восточное графство Англии, расположено к северу
от Лондона.
242 Уолтэм-Кросс - местечко западнее Уолтэм-Эбби (см. также примеч. 223
и 239).
243 Энфилд - в те времена городок в 10-ти милях к северо-востоку от
Лондона, севернее Уолтэмстоу.
244 Грейвсэнд - порт на южном берегу Темзы неподалеку от Лондона.
245 ...лодочники находили способ пробираться выше Моста... - Имеется в
виду единственный мост через Темзу в то время - Лондонский мост.
Утверждается, что на этом месте существовал мост, построенный в 43 г. до н.
э. еще римлянами, но достоверные сведения сохранились лишь о деревянном
мосте X в., который послужил препятствием продвижению вверх по Темзе
кораблей короля Канута (прав. 1016-1036). В 1136 г. деревянный мост сгорел.
Строительство грандиозного каменного моста было начато в 1176 г, и завершено
в 1209 г. Он состоял из 20-ти проемов примерно в 28 футов ширины и 20 опор
примерно в 20 футов шириной. На огромной центральной опоре примерно в 34
фута шириной была сооружена часовня Св. Фомы Кентерберийского. Общая ширина
моста составляла 20 футов, а ширина проезжей части - 12 футов. По обе
стороны моста громоздились дома, нависавшие над водой; они были снесены в
1758-1762 гг. Сам же мост просуществовал до 1831 г. Обычно в те времена
лодочное движение на Темае было весьма оживленным, так как до 1750 г.
Лондонский мост был единственным мостом через Темзу в столице. За три пенса
можно было проплыть в лодке от Уайтхолла до Лондонского моста, а между
Ламбетом и Вестминстером регулярно курсировал паром со стандартными ценами
за перевозки: всадник с лошадью - два пенса, карета с лошадью - 1 шиллинг,
карета шестеркой - самая дорогая перевозка - 2 шиллинга и шесть пенсов.
246 Таттнем - городок в Миддлсексе, к северу от Лондона.
247 Эдмонтон - местечко в Миддлсексе, между Хорнси и Энфилдом (см.
примеч. 229 и 243), в настоящее время - северный пригород Лондона.
248 Хэдли - живописная деревня неподалеку от Барнета (см. примеч. 220).
249 Сент-Олбэнс - местечко в 20-ти милях к северо-западу от Лондона.
250 Уотфорд - город в Хатфордшире, к северо-западу от Лондона.
251 Элтам - местечко к юго-востоку от Лондона. Там сохранился ров от
поместья дочери Томаса Мора Маргерит Роупер, где, согласно преданию, она
похоронила голову своего казненного отца.
252 Кройдон - городок к югу от Лондона в графстве Сарри.
253 Баркинг-Эббот. - Баркинг - в то время городской район Эссекса, в
настоящее время восточный пригород Лондона.
254 Брентфорд - городок в Миддлсексе, на северном берегу Темзы, у
впадения в нее реки Брент (в настоящее время эта река взята в трубу).
255 Оксбридж - старинный городок в Миддлсексе на реке Кольн, в 15-ти
милях к западу от Лондона.
256 Хартфорд - старинный город в одноименном графстве, в 20-ти милях к
северу от Лондона.
257 Кингстон - город в Сарри, в 10-ти милях к юго-западу от Лондона.
258 Стейнс - городок в Миддлсексе неподалеку от Брентфорда (см. примеч.
254).
259 Чертси - городок к юго-западу от Лондона в графстве Миддлсекс.
260 Виндзор - город в Беркшире, в 20-ти милях к западу от Лондона. В
нем находится Виндзорский замок - одна из официальных загородных резиденций
английских королей.
261 Cum aliis (лат.) - вместе с другими.
262 ...заболевшие имели явную склонность злостно заражать других. Среди
докторов шли долгие споры о причинах такого поведения. - Склонность эту
отмечает и доктор Ходжес: "При чумной заразе что может быть более
безотлагательным, чем отделить здоровых от больных? И особенно при
заболевании, которое проникает не только в тело, но и отравляет дыхание;
ведь в таком случае дыхание больного губит здоровых людей, и даже на пороге
смерти заболевшие норовят передать другим тот яд, что сразил их самих. Этим
бредовым стремлением и объясняются всяческие проделки с подсовыванием
здоровым заразы из болячек зачумленных; не говоря уж о той женщине, которая
заключила в объятия своего несчастного мужа и заставила его окончить жизнь
вместе с нею".
263 ...подобно тому, как ведет себя взбесившаяся собака... - Автор
анонимной брошюры "Запирание зараженных домов" утверждал, что заболевшие
зачастую готовы были на любое насилие, против кого бы оно ни было направлено
- жены, матери, ребенка, - все едино: "На прошлой неделе на Флит-Лейн
заболевший хозяин дома мучился от огромного нарыва <...>; в припадке боли он
вскочил с кровати, несмотря на все старания жены, которая ухаживала за ним,
удержать его, схватил нож, нанес жене удар и самым подлым образом убил бы
ее, если б не одеяло, в которое та завернулась, чем и спасла свою жизнь, на
крики "Убивают!" вовремя прибежали соседи и помогли ей спастись. А человек
тот уже умер".
264 Женщины и хозяйские дочки... почти до смерти напугались... - Сэмюэл
Пепис (см. примеч. 97), находившийся в Лондоне во время чумы, зафиксировал в
своем знаменитом "Дневнике" такой случай: "9 августа 1665 года. Странная
история произошла с олдерменом Вансом. споткнувшимся о мертвое тело на
улице. Придя домок, он рассказал об этом жене; та же, будучи беременной,
пришла в страшный испуг, заболела и умерла от чумы".
265 Один человек с Уайткросс-стрит <...> сжег себя живьем прямо а
постели... - Этот эпизод Дефо взял из брошюры Винсента "Грозный глас
Господен в столице"; Уайткросс-стрит в переводе на русский язык означает
Белокрестовская улица, она находится неподалеку от Мургейт.
266 Госуэлл-стрит (в той ее части, что ближе к Олд-стрит). -
Госуэлл-стриг была продолжением (уже за пределами Сити) улицы
Сент-Мартинз-ле-Гранд (см. примеч. 354).
267 Сент-Джон-стрит - улица, идущая к северо-востоку от Холборна.
268 ...практика запирания домов совершенно не помогала этой цели. -
Дефо в своем отрицательном отношении к этой мере следует аргументам,
изложенным в труде доктора Ходжеса.
269 Петтикоут-Лейн - переулок в Ист-Энде, впоследствии стал известен
своими воскресными утренними базарами.
270 Наше предложение об отделении здоровых от больных относилось только
к зараженным домам... - В этом "предложении" Дефо вновь налагает мысли
доктора Ходжеса.
271 ...Биржа не была закрыта, но ее почти не посещали. - Не совсем
ясно, о каком именно месяце идет здесь речь - вероятнее всего, об августе-
сентябре; в этом случае утверждения повествователя неточны, так как в
августе-сентябре 1665 г. Биржа была закрыта на ремонт (см. "Ньюз", Э 60 и
76). В конце июля Биржа еще была открыта, и Сэмюэл Пепис отмечает в своем
"Дневнике", что в этот период заходил на Биржу, где "было очень мало
народу". 16 октября Пепис вновь посещает Биржу: "О Боже мой, как там
пустынно! А люди - одни сброд!.. Оттуда я пошел к Тауэру; но, Бог мой, какие
унылые, безлюдные улицы, сколько недужных со всякого рода болячками; и
сколько разных грустных историй услышал я, пока гулял; только и разговору,
что об умерших и заболевших да сколько погибло в этом месте, а сколько в
том".
272 ...некоторые доктора настаивали на том, что огонь <...> опасен для
здоровья... - К числу противников уличных огней принадлежал и доктор Ходжес.
273 ...почти никто из заболевших в это время (то есть в августе и в
сентябре) <...> не уцелел... - Это отмечает и доктор Ходжес: "В августе и
сентябре болезнь изменила свою медлительную вялую поступь и, овладев почти
всем городом, учинила жесточайшее побоище, так что за неделю умирало по три,
четыре, а то и пять тысяч человек; а один раз даже восемь тысяч".
274 ...были ли это самые тяжелые "собачьи дни" и, как утверждали
астрологи, все объяснялось дурным воздействием Сириуса... - "Собачьи дни"
связаны с латинским названием Сириуса - Canicula - "маленькая собачка"; нет
полного единодушия относительно продолжительности этих дней; обычно
считается, что это период с 3 июля по 11 августа, связанный с гелиакальным
восхождением Сириуса.
275 ...рядом с вывеской Моисея и Аарона... - вероятно, вывеска трактира
или гостиницы с указанием имен владельцев.
276 ...с той стороны, где Застава... - Речь идет не о воротах
средневекового Сити (gates), а о воротах (bars) у застав земляного вала,
насыпанного в 1643 г., расположенных на главных дорогах, идущих из Лондона,
и указывающих на границу территорий, прилегающих к Сити слобод.
277 Акт о единообразии - Акт о единообразии (англиканского
богослужения), первоначально принятый в 1559 г, и окончательно утвержденный
в мае 1662 г., предписывал использование Книги общей молитвы (The Book of
Common Prayer) как единственного официального молитвенника. Согласно этому
Акту, все государственные чиновники и священники должны были принять
причастие по законам англиканской церкви и подписать декларацию, что они
никогда не поднимут оружие против монарха. Около двух тысяч священников,
отказавшихся принять причастие, было изгнано из своих приходов.
278 ...необходимо было в этом крайне бедственном положении, как можно
быстрее, хоронить людей. - О том, что в августе-сентябре похороны
производились и в дневное время, есть свидетельства в книге "Грозный глас
Господен в столице", где говорится, что "ночи были слишком коротки, чтобы
хоронить мертвецов, да и времени едва хватало..." О том же пишет в частном
письме от 14 сентября 1665 г. (которое, конечно, не могло быть известно
Дефо) Дж. Тиллисон настоятелю Сэнкрофту: "Существовал обычай хоронить
мертвых только ночью, но теперь и ночи и дня едва хватало на это, так как за
последние недели сводки смертности настолько возросли, что мертвецы лежали
кучами по нескольку часов на земле, пока доходила очередь, чтобы похоронить
их".
279 ...с 22 августа по 26 сентября <...> число умерших в еженедельных
сводках почти достигло сорока тысяч. - Можно предположить по контексту, что
здесь речь идет об умерших только от чумы, тогда как, согласно сводкам, из
38 195 человек, умерших за указанный период, от чумы погибли лишь 31 331
человек.
280 Финсбери-Филдс - пригород на севере Лондона.
281 ...в десять с половиной унций... - Унция - мера веса в системе
английских мер, равная 16 драхмам, или 28,35 граммам.
282 ...только два чумных барака... - Прежде утверждалось, что во время
чумной эпидемии функционировал только один барак на Банхилл-Филдс; здесь же
дается точная информация, так как упоминается и Вестминстерский барак.
283 ...в полях за Олд-стрит... - Речь идет о Банхилл-Филдс.
284 ...лорд-мэр и шериф <...> каждый базарный день выезжали верхом
поглядеть, как исполняются их указания: получают ли селяне самый радушный
прием... - О "заботах магистрата", радеющего о том, чтобы "рынки были
открыты как обычно и чтоб там было обилие продуктов, которые являлись
большим подспорьем для больных, так что и намека на голод, столь роковой для
чумного мора, не было и помину", - пишет в своем труде и доктор Ходжес.
285 Правда, на Хай-стрит необходимость все-таки выгоняла людей... -
Хай-стрит - родовое название главной (или бывшей главной) улицы во многих
английских городах, на которой обычно располагалось множество торговых
лавок. В таком большом городе, как Лондон, несколько улиц носили это
название; в данном случае имеется в виду Олдгейт-Хай-стрит, на которой жил
повествователь; в Саутуэрке же была своя "главная улица" - Баро-Хай-стрит.
286 Корнхилл - оживленная улица в Сити со множеством торговых контор;
на ней в те времена обычно выставляли приговоренных к наказанию у позорного
столба. Однако сам Дефо, подвергшийся такому наказанию за публикацию брошюры
"Кратчайший способ разделаться с диссидентами", стоял не здесь, а у
Королевской биржи, на Чипсайде (см. ниже) и у Темпл-бара. Стояние длилось по
часу в день 29, 30 и 31 июля 1703 г.
287 Чипсайд - улица в Сити; в средние века на ее месте находился
главный рынок города; отсюда и название улицы: в древнеанглийском "ceap"
означало "продавать" и "покупать".
288 ...никогда не давалось точных отчетов... - Здесь Дефо следует
единодушному мнению медиков той поры. Так, доктор Ходжес полагал, что общая
цифра погибших от чумы за 1665 г. превысила 100 000 человек, тогда как,
согласно официальным сводкам, она составляла 68 596.
289 ...один из самых знаменитых врачей (который позднее опубликовал
отчет на латыни о тех временах и о своих наблюдениях) утверждает, что в одну
из недель умерло двенадцать тысяч... - Речь идет несомненно о Натаниеле
Ходжесе, который в 1665 г. опубликовал на латыни свое сочинение "Loimologia"
("Наука о заразных болезнях"); в 1720 г., т. е. как раз незадолго до
публикации "Дневника", этот труд перевел на английский Джон Квинси. В книге
Ходжеса содержится следующее утверждение: "К началу сентября болезнь
достигла своего пика; в течение этого месяца умирало более двенадцати тысяч
человек в неделю".
290 У него была рана, на ноге, и когда бы он ни оказывался в компании с
заразными людьми <...>, рана на ноге начинала саднить и бледнеть... - О
похожем случае сообщалось в письме Дж. Биля от 12 октября 1670 г. сэру Р.
Бойлу; он писал о своем знакомом, человеке вполне надежном, который
утверждал, что знал восьмидесятилетнюю старушку, не раз говорившую в его
присутствии, будто может почувствовать чуму в радиусе тридцати миль по боли
в местах, где когда-то были чумные бубоны, так как еще в молодости она
перенесла чуму.
291 В конце концов люди сделались равнодушнее к опасности... - Это
психологически тонкое наблюдение Дефо использует и в романе "Молль
Флендерс", когда в Ньюгейтской тюрьме героиня с изумлением обнаруживает, что
люди, ожидающие приговора или уже приговоренные к смерти либо длительному
тюремному заключению, пребывают в отупении отчаяния.
292 ...с поистине турецким фатализмом... - О поведении турок во время
чумы пишет доктор Кемп в своем "Кратком докладе...": "Турки убеждены, что
судьба каждого предопределена и нерушимо предрешена Божьей волей; согласно
этому убеждению, они пренебрегают любыми попытками избежать заразы: общаются
друг с другом, покупают товары в зараженных домах, носят одежду недавно
умерших... И множество наказано чумой за свою ересь",
293 В первом зараженном доме умерло четверо. - Это утверждение
расходится с началом романа, где говорится, что в первом доме пострадавших
было двое-трое, и еще один человек уже в другом месте умер недели через три.
Далее версии одного и того же события также расходятся.
294 Грейс-Черч-стрит - улица, на углу которой находится Леденхоллский
рынок (см. примеч. 180).
295 ...лучший совет следующий: самое надежное средство от чумы - бежать
от нее подальше. - Дефо повторяет приведенный в "Кратком докладе..." доктора
Кемпа совет Гиппократа: "Противоядие от чумы состоит на трех наречий - Cito,
Longe, Tarde, то есть "беги быстро", "уходи как можно дальше" и "возвращайся
медленно".
296 Чума подобна большому пожару... - Развернутое сравнение чумы с
Лондонским пожаром приводится у доктора Ходжеса
297 Я могу предложить множество планов, на основе которых городские
власти <...> могли бы избавиться от большинства нежелательных горожан... -
Во многом сходный план предлагает доктор Ходжес: "Но если в дальнейшем чума
вновь разразится (не приведи, Господь, чтобы это случилось), то при всем
покорстве высшим силам было бы неплохо приготовить удобные жилища за
пределами города для тех, кто остался не заболевшим в зараженных семьях; в
то же время и больных можно было бы переводить в удобные помещения,
специально для них приготовленные. И тогда этой практике, столь противной
религии и гуманности, что даже магометане осуждают ее, - практике запирания
больных вместе со здоровыми, - будет положен конец".
298 ...воздействует на разные организмы по-разному... - В трактате
доктора Кемпа рассказывается о разных формах проявления чумы: у одних она
начиналась с озноба, у других - с легкого жжения, у третьих - с жара. "Чума
поражала кровь и все жизненные органы; вызывала боль в голове, жжение в
мозгу, нервные судороги, помутнение в глазах, будто от долгих слез, лишавших
их естественного блеска, она вызывала бледность в лице, шум в ушах,
отсутствие аппетита, колики в желудке, тошноту и рвоту, слабость в чреслах,
боли в спине, мокроту в легких; приводила к сердцебиению и обморокам;
дыхание делала зловонным, голос - хриплым, горло - воспаленным, рот и язык -
пересохшими, пульс - замедленным, кожу - бледной, потливой, со всякого рода
пятнами, болячками, затвердениями, нарывами и карбункулами".
299 ...можно увидеть в микроскоп странных, чудовищных, жутких
существ... - Сочетание линз, образующих оптическую систему микроскопа, было
известно голландским и итальянским шлифовальщикам стекол для очков уже в
конце XVI в. Первые достоверные сведения о микроскопе относятся к 1609-1610
гг., к тому времени, когда Галилей сконструировал свои первый микроскоп но
схеме усовершенствованной им голландской зрительной трубы. В 1665 г.
профессор лондонского Грашем-Колледжа Роберт Хук опубликовал "Микрографию" -
результаты своих наблюдений при помощи микроскопа. Однако историки
утверждают, что не обнаружено случаев применения микроскопов во время
Лондонской чумы. Простые же микроскопы были созданы в Голландии А.
Левенгуком около 1677 г.
300 ...первый человек умер от чумы около 20 декабря 1664 года в районе
Лонг-Эйкра... - Это уже третья версия одного и того же события: выше
сообщалось, что умерло двое в конце ноября - начале декабря, а через три
недели еще один человек (см. также примеч. 293).
301 ...морозы стояли целых три месяца; это, утверждали доктора, могло
сдерживать заразу... - Доктор Ходжес пишет в своем труде: "Следует отметить,
что в декабре установились большие морозы, которые не спадали целых три
месяца и, похоже, как бы убили заразу - в этот период от нее умерло всего
несколько человек; но и тогда болезнь не полностью прекратилась: ведь в
разгар рождественских праздников меня пригласили к молодому человеку с
лихорадкой, у которого после двухдневного лечения проступили два уплотнения
в паху величиной с орех; обследовав их, я вскорости обнаружил и по
черноватому налету, и по кругам вокруг, что у больного чума; в дальнейшем и
другие симптомы подтвердили это мнение, хотя пациент, благодарение Господу,
выздоровел. Я рассказал об этом случае, чтобы показать, что зима не
полностью задушила болезнь, хотя и сильно утишила ее; но, по мере того как
морозы спадали, зараза стала набирать силу и постепенно выходить из
убежища".
302 ...не следует так полагаться на утверждения, что между 20 декабря.
9 февраля и 22 апреля никто не умирал от чумы. - Гэдберн в брошюре
"Избавление Лондона предрешено" (июль 1665 г.), утверждая, что расположение
планет предвещало несчастье, добавляет: "Согласно всем этим причинам,
очевидно, что чума должна была начаться в конце 1664 г.; и действительно,
если бы не столь суровая зима (когда морозы не прекращались в течение почти
десяти недель кряду), которая, как мы знаем, не допустила ее, болезнь
безусловно началась бы. Да она и началась-таки тогда, что я могу подтвердить
на собственном опыте, так как в тот год и меня на Рождество посетила эта
болезнь. А мой добрый друг хирург Джошуа Вествуд (чьей помощью я пользовался
и чьим советам следовал, благодаря чему, слава Создателю, и остался жив)
говорил, что в то время многие из его пациентов страдали от той же болезни
<...> однако, так как тогда смертных случаев почти или вовсе не было, люди
скрывали это от других, пока оставалась такая возможность" (см. также
примеч. 73).
303 ...числить своих мертвецов умершими от других болезней... - Это же
отмечает и автор брошюры "Размышления над еженедельными сводками смертности"
(1665), который считает, что разницу между смертностью в чумной год и в
предшествующие и последовавшие за чумой годы следует причислить к смертям от
чумы, занесенным в рубрики других болезней.
304 ...возросла смертность от тех болезней, которые чем-то напоминали
чуму... - Аналогичное явление отмечает доктор Ходжес, как в начале, так и в
конце эпидемии: "...Не меньшее удивление вызывает и то, что, как раньше все
остальные заболевания были поглощены чумой, так теперь, при затухании
эпидемии, она вырождалась во всякого рода другие болезни, например,
воспаления, головные боли, ангины, дизентерию, оспу, сыпи, лихорадки и
чахотку".
305 ...нужда вполне справедливое и законное оправдание... - Это
убеждение является одним из основных постулатов этики прагматика Дефо и
проходит практически через все его романы. Грош цена человеческой
порядочности, не раз утверждал Дефо, если человек живет в довольстве и
благополучии; другое дело остаться порядочным, когда голодаешь ты сам или
твои близкие. В издаваемом им "Обозрении" он не раз обращается к этой мысли:
"Еще в Писании сказано - да не презришь вора, кто украл, дабы утишить голод
свой; и не потому, что в том меньший грех; но да не презрит вора тот, кто не
ведает, что значит голод". Дефо оправдывает очень многие человеческие
проступки нуждой и инстинктом самосохранения, и все экстремальные ситуации в
его романах связаны почти исключительно с материальными лишениями. Как
остроумно подметил Чезаре Павезе в предисловии к сделанному им переводу
"Молль Флендерс", герои Дефо неустанно повторяют лишь одну молитву,
обращаясь к Всевышнему: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь!", забывая очень
часто ее продолжение: "И не введи нас во искушение". "Искушение", считает
Дефо, в экстремальных обстоятельствах естественно, и противиться ему
человеческой натуре нелегко: вспомним восклицание Молль Флендерс: "Бедность
- худший из дьяволов".
306 Я сам не раз был свидетелем бедственного положения бедняков, но
также и благотворительной помощи, которую оказывали им ежедневно... - Об
этом же пишет и доктор Ходжес: "Но невозможно вообразить, как свирепствовала
чума среди простых людей - до такой степени, что ее нередко называли "чумой
бедняков". Однако, хоть большинство состоятельных людей и покинуло город,
так что он стал почти безлюдным, простой народ не испытывал нужды: их
потребность во всем необходимом обеспечивалась обилием пожертвований
богатых, так что неимущие, при всей своей нищете, получали щедрую
поддержку".
307 ...если правда, что <...> в одном только Крипплгейтском приходе
было за неделю роздано на облегчение положения бедняков 17 800 фунтов... -
У. Николсон в своем исследовании о документальных источниках "Дневника"
отмечает, что это одно из редких у Дефо преувеличений: "Едва ли все
лондонские приходы вместе взятые могли за неделю собрать пожертвований на
такую огромную сумму, как 17 800 фунтов",
308 ...надо не забыть упомянуть о положении с торговлей... - Вопросы
торговли как главного гаранта благосостояния нации весьма волновали Дефо:
недаром им были написаны "Всеобщая история торговли, в особенности в ее
отношении к британской коммерции" (1713), "Всеобщая история открытий и
усовершенствований в полезных искусствах, в особенности в отраслях
коммерции, навигации и земледелия во всех известных частях света"
(1725-1726), "Совершенный английский негоциант" (1725-1727) и "План
английской торговли" (1728). "Что такое Англия без своей торговли?" -
восклицает Дефо, обсуждая возможность войны с Францией. А говоря о
"совершенном английском негоцианте", утверждает: "Настоящий купец -
универсальный ученый. Он настолько же выше простого знатока латыни и
греческого, насколько этот последний выше безграмотного, не умеющего читать
и писать человека. Он знает языки без помощи книг, географию без помощи карт
<...> его торговые путешествия исчертили весь мир; его иностранные сделки,
векселя и доверенности говорят на всех языках; он сидит в своей конторе и
разговаривает со всеми нациями".
309 ...на островах "арха"... - жаргон моряков того времени, называвших
так архипелаг. Архипелагом называли в те времена острова Эгейского моря.
310 Лекгорн - старое название Ливорно, города в центральной Италии
(Тоскана) на Лигурийском море.
311 ...в Смирне и Скандеруне... - Смирна - древнегреческое название
города Измир, крупного порта в Турции в Измирском заливе Эгейского моря;
Скандерун - город в северной Сирии, более известный как Искандерун, или
Александретта, назван так в честь Александра Македонского (356-323 до н.
э.); Искандер - арабская форма имени Александр.
312 ...порт Фаро в королевстве Альгарва... - Порт на юге Пиренейского
полуострова в королевстве и провинции на крайнем юге Португалии
(соответствует теперешнему административному округу Фаро); название восходит
к арабскому и означает "земля, лежащая на западе"; титул "король Альгарва"
был впервые присвоен королю Португалии Альфонсо III, когда он отвоевал
королевство у мавров в 1253 г.
313 ...что погибло не более одной десятой населения Лондона, что в
городе живет еще пятьсот тысяч человек... - Согласно брошюре Дж. Белла
"Напоминание Лондону", общее число умерших за 1665 г. во всех приходах
составило 97 306 человек, из них от чумы - 68 596. Однако современный
историк Л. У. Коуви, автор словаря социальной жизни Великобритании и
монографии "Чума и пожар" (1970), полагает, что в Лондонскую чуму погибло
сто тысяч человек.
314 ...в Лондоне когда-то был жесточайший мор... - Имеется в виду
чумная эпидемия 1348 г., которая получила в народе название "Черная Смерть".
Эпидемия эта пришла в середине XIV в. с Востока и затронула многие
европейские страны. После нее в Англии были вспышки болезни в 1407, 1564,
1603, 1625, 1636 гг., и от всех них Лондон довольно сильно страдал; эпидемия
1665 г. была фактически последней вспышкой чумы в Лондоне.
315 ...то ли через самих жителей Лондона, то ли вследствие торговли
<...> чума распространилась <...> по всему королевству... - Это же отмечает
и доктор Ходжес: "Не должны мы забывать в нашем отчете и о том, что зараза
распространилась на соседние территории; ведь лондонцы, запрудившие
близлежащие городки, несли с собой заразу, так что болезнь стала бушевать
там с не меньшей яростью; и чума, которая ранее кралась с одной улицы на
другую, теперь царила в целых графствах, почти не оставляя незатронутых
мест; особенно тяжело пришлось городам на Темзе, и, похоже, не из-за сильной
влажности воздуха, но из-за зараженных товаров, которые провозили по реке.
Более того, даже города с наиболее завидным расположением, обеспечивающим
здоровый воздух, не избежали общего бедствия. Таковы были рост и
распространение жестоких разрушений, начавшихся по-первости лишь в Лондоне".
316 ...как обстояли дела в Шотландии, у меня не было случая выяснить. -
Шотландия, сильно страдавшая от предшествующих чумных эпидемий, на этот раз
приняла суровые меры защиты от заразы: с 12 июля 1665 г. всем жителям Англии
под страхом смертной казни и конфискации имущества запрещалось пересекать
границу Шотландии, если у них не было при себе соответствующего пропуска с
печатью и подписями лорд-мэра и олдерменов, поэтому и в газетах информация о
положении в Шотландии не помещалась, и выяснить, как обстояли дела в
Шотландии, ни шорник Г. Ф., ни реальный автор "Дневника" действительно не
имели возможности.
317 Колчестер - древний город на северо-востоке Эссекса на реке Кольн,
существовавший со времен римского завоевания Британии; подробно описан Дефо
в романе "Молль Флендерс".
318 Ярмут (совр. Грейт-Ярмут) - портовый город в графстве Норфолк на
востоке Англии при впадении реки Яр в Северное море.
319 Гулль (Халд) - крупный торговый город на северо-востоке Англии в
графстве Йоркшир в устье реки Хамбер.
320 Гамбург - город в Германии; с 1510 г. - вольный имперский город.
321 Бристоль - старинный город и порт на западном побережье Англии; в
своем "Путешествии по всему острову Великобритания" Дефо называет его "самым
крупным богатым и значительным торговым портом во всей Великобритании, не
считая Лондона".
322 Экзетер - древний город на юго-западе Англии на реке Экс,
существовавший еще до римского завоевания Британии.
323 Плимут - портовый город на юго-западе Англии.
324 Канарские острова - группа гористых вулканических островов в
Атлантическом океане в 100-120 км от северо-западного побережья Африки.
325 ...в Гвинею... - В те времена поездки в Гвинею (Западная Африка в
районе Гвинейского залива) были, как правило, связаны с работорговлей;
существовали даже выражения "гвинейский корабль" - корабль, везущий
невольников на продажу, и "гвинейский купец" - работорговец.
326 Вест-Индия (ист.) - архипелаг между Северной и Южной Америкой.
327 ...пониже Моста... - Имеется в виду Лондонский мост (см. примеч.
245).
328 Ньюкасл (полн. Ньюкасл-эпон-Тайн) - большой портовый город (в XII
в. его население уже превышало 10 000 человек) на северо-востоке Англии;
расположен на реке Тайн близ ее впадения в Северное море.
329 Хамбер - река на северо-востоке Англии.
330 Йоркшир - графство в Центральной Англии.
331 Норфолк - графство в Восточной Англии.
332 Фивершем - город в сорока пяти милях к югу от Лондона в графстве
Кент.
333 Маргейт - город в восьмидесяти милях к юго-востоку от Лондона на
острове Танет.
334 Сэндуич - старинный город на реке Стор в двух милях от побережья на
юго-востоке Англии.
335 Саффолк - графство в Восточной Англии.
336 Блэкдолл - местечко на Темзе неподалеку от Гринвича.
337 ...там, особенно в Ньюкасле и Сандерленде, чума унесла много
жизней. - В газете "Ньюз" (Э 83) от 13 октября 1665 г. (то есть в то время,
когда эпидемия уже начала спадать) было помещено письмо из Дарема, в
котором, в частности, сообщалось: "Зараза в нашем краю, нанесенная сюда три
месяца назад какими-то приезжими из Лондона или Ярмута, теперь, благодарение
Богу, сильно уменьшилась; в Сандерленде, месте, куда ее занесли прежде
всего, теперь все благополучно, и в других зараженных местах состояние
заметно улучшилось. Все больные переведены за город в специально построенные
для них на должном расстоянии домики". Сандерленд - большой портовый город в
устье реки Уир.
338 Чолдрен - старинная мера сыпучих тел (прежде всего угля), различная
для разных районов. В Лондоне чолдрен равен 36 бушелям, или 1,3 м3.
339 Их приказывали было жечь в следующих местах... - Помимо мест,
названных в "Дневнике", по указанию лорд-мэра от 2 сентября 1665 г. костры
жгли прямо на улицах по одному на каждые двенадцать домов (шесть с одной
стороны и шесть - с другой).
340 Биллингсгейтские ворота - одни из городских ворот со стороны реки,
т. е. с южной стороны Сити; по преданию, их название связано с именем
Белинуса, легендарного британского короля. У ворот с давних времен
располагался рыбный рынок, носящим то же название, и так как он еще в XVII
в. заслужил себе дурную славу грубыми манерами и бранью продавцов, то слово
"биллингсгейт" вошло в английский язык как нарицательное для обозначения
грубой, площадной брани.
341 Куинзхитт - причал на левом берегу Темзы западнее Боугейт.
342 ...у монастыря Блэкфрайарз... - Речь идет о расположенном в Сити
здании бывшего монастыря доминиканцев; этот монашеский орден был основан Св.
Домиником в XIII в.; его членов называли "черными братьями" за цвет их ряс.
Монастырское здание после секуляризации монастырей, проводившемся при
Генрихе VIII, стало собственностью короны; именно в нем папский легат слушал
дело о разводе Генриха VIII с Екатериной Арагонской; позднее, в 1596 г.,
помещение полуразрушенного монастыря было куплено актером Джеймсом Бербеджем
(отцом знаменитого Ричарда Бербеджа, игравшего в пьесах Шекспира) и
приспособлено под театр. В дальнейшем (в 1608 г.) Блэкфрайарский театр
перешел к Ричарду Бербеджу. Шекспир имел свою долю доходов от этого театра,
и его труппа играла в нем.
343 ...у ворот Брайдсуэлла... - Брандсуэлл - королевский дворец в
Лондоне на берегу Темзы у впадения в нее речки Флнт (см. примеч. 185)
неподалеку от колодца Св. Бригитты. Дворец был перестроен при Генрихе VIII
для приема императора Карла V. Эдуард VI отдал его под госпиталь; позднее он
был приспособлен под исправительный дом.
344 ...в приходе Сент-Хеленс - приход с главной церковью Св. Елены
неподалеку от Бишопсгейт, перестроенной из старой церкви женского монастыря,
основанного в 1210 г., вследствие чего у храма два нефа; мраморный фронтон
был достроен в 1632 г.
345 ...у западного входа в собор Св. Павла... - Собор Св. Павла в
Лондоне - главный собор англиканской церкви. Старое здание собора сильно
пострадало от пожара в 1561 г. Оно было частично восстановлено известным
архитектором Иниго Джонсом, но в годы революции оставалось в небрежении.
После реставрации в 1660 г. знаменитый архитектор Кристофер Рен выдвинул
план реконструкции собора, однако он стал приводиться в исполнение лишь
после Великого лондонского пожара 1666 г., когда здание пострадало вторично.
Реконструкция собора была начата в 1675 г. и завершена в 1711 г.
346 Бау-Черч - разговорное название церкви Сент Мэри-ле-Боу, одной из
самых известных церквей Лондона; находится на Чипсайде в Сити. Название
церкви связано с тем, что она была построена на фундаменте старинной
норманнской часовни с арочным сводом (англ. "bow" - "дуга", "арка");
существующее ныне здание построено Кристофером Реном в 1670-1683 гг. Церковь
славилась звоном своих колоколов, и, так как она находилась в центре
Лондона, считалось, что тот, кто живет в пределах слышимости их звона, может
почитать себя истинным лондонцем.
347 ...рядом с Сент-Магнус-Черч... - Церковь Сент-Магнус находилась в
Сити неподалеку от Лондонского моста.
348 ...многие ворчали потом на эту меру и утверждали, что от костров
перемерло еще больше народу. - К числу противников уличных огней принадлежал
и доктор Ходжес. Он пишет: "Не прошло и трех дней [после того, как на улицах
стали жечь костры. - К. А.], как столь бурно оплакивали умерших, а заодно и
роковую ошибку, что чуть было не затушили этими потоками слез и сами огни.
Не буду утверждать, как говорили некоторые, что эти костры были
предвестниками грядущего Великого пожара или грядущего вечного пламени, но -
было ли это от удушливых свойств топлива или от сырости воздуха, которая за
ними воспоследовала, - только именно тогда город пережил самую страшную ночь
- за нее умерло более четырех тысяч человек. Да будет потомство
предупреждено этой ошибкой, дабы не употреблять наугад лекарство, когда не
знаешь причины болезни". Это, пожалуй, один из редких случаев, когда мнение
повествователя в "Дневнике" расходится с мнением доктора Ходжеса.
349 Лоуд. - Хотя в данном контексте речь идет о сене, лоуд считается
английской мерой объема для пиломатериалов; он равняется пятидесяти
кубическим футам, или 1,41 м3.
350 Было неслыханное обилие самых разнообразных ягод и фруктов: яблок,
груш, слив, вишен, винограда; и они становились тем дешевле, чем меньше
оставалось народу; однако бедняки ели их в слишком большом количестве, в
результате - поносы, рези в желудке, переедание и тому подобное, что часто
способствовало заражению чумой. - Эти строки почти дословно повторяют
сочинение доктора Ходжеса: "Тот год был на редкость урожайным на фрукты,
особенно груши и вишни, которые шли по столь низкой цене, что бедняки
объедались ими; и это могло весьма способствовать ослаблению организма и
проявлению болезни, которая до того пребывала в скрытой форме". В несколько
ином ключе о тех же фактах сообщает доктор Уильям Богхерст: "Осенью был
прекрасный урожай, и никаких перемен в злаках и фруктах в связи с чумой не
произошло: все виды фруктов - яблоки, груши, вишни, сливы, тутовая ягода,
малина, земляника, а также овощи - пастернак, морковь, свекла, все цветы,
лечебные травы и прочее уродились обильными, крупными, красивыми и
здоровыми; злаки тоже взошли, как обычно - хорошо и обильно. И хотя
множество ничтожных писак пыталось охаить все это и пугало людей тем, чт_о_
они едят, пьют, покупают на рынке, и советовало <...> не есть баранину,
свинину, рыбу, фрукты, овощи, зелень, а особенно вишни и огурцы, - однако
мало кто ел столько фруктов, как я, в продолжение всего того года, и,
однако, вообще ни разу не болел за весь год".
351 ...люди так обезумели от первого всплеска радости... - В "Робинзоне
Крузо" Дефо дважды - в начале и в конце романа - выражает эту же мысль:
"Внезапная радость, как скорбь, приводит в растерянность разум" и "мой ум
помутился от неожиданной радости".
352 ...люди открывали лавки, разгуливали по улицам, возвращались к
своим занятиям... - Почти дословное повторение строк из книги доктора
Ходжеса: "Дома, где раньше царила смерть, теперь вновь заполнились людьми;
лавки, закрытые в течение почти всего года, теперь открывались вновь; люди
радостно шли по своим нуждам - за покупками или на работу, и даже, как это
ни невероятно, те самые горожане, которые раньше опасались даже друзей и
родственников, бесстрашно переступали пороги домов и комнат, где еще недавно
больные испускали последний дух".
353 ...отбросив и страх и предусмотрительность, потянулись в Лондон...
- У Ходжеса читаем: "В начале ноября людям стало вновь возвращаться
здоровье, они теперь и выглядели-то совсем по-иному. И хотя лондонцев
хоронили еще довольно часто, однако многие из тех, кто больше всего
торопился покинуть город, теперь не менее торопился вернуться назад, и
возвращался, отбросив всякий страх; так что в декабре дороги были запружены
обратным потоком".
354 Сент-Мартинз-ле-Гранд - улица, продолжающая с южной стороны
Олдергейт-стрит и переходящая в Госуэлл-стрит. Название улицы связано с
монастырем, одним из старейших в Англии, который когда-то находился здесь.
355 Хотелось бы мне сказать: как изменилось лицо города, так изменились
и нравы его обитателей. - Близкие строки находим в памфлете Винсента
"Грозный глас Господен в столице" (1667): "Теперь горожане, разбредшиеся по
сельским местностям, спасаясь от заразы, стали подумывать о своих брошенных
домах и торговле и начали постепенно возвращаться обратно, хотя и со страхом
и трепетом, опасаясь, что последние удары шторма могут настигнуть их. О, как
хотелось бы мне, чтобы многие из них не тащили с собой обратно свои прежние
нравы и грехи..."
356 Норич - старинный город в графстве Норфолк в Восточной Англии.
357 Питерборо - торговый город, в те времена принадлежавший графству
Нортгемптоншир в Восточной Англии (в наст. время относится к Кембриджширу).
358 Линкольн - древний город, центр одноименного графства,
существовавший еще до римского завоевания, Британии и называемый бриттами
Линдун, что означает "крепость на холме у пруда".
359 ...такие бесхозные пожитки переходили в собственность короля <...>
король передал все это как "посланное Богом"... - По закону, отмененному
лишь в 1846 г., если после покойника не оставалось наследников, то его
собственность считалась "данной Богу", таким образом английский монарх,
светский глава англиканской церкви, получал на нее права.
360 Берберия (ист.). - Так в те времена называли северное побережье
Африки.
361 Сент-Олл-Холлоуз-он-де-Уолл. - Имеется в виду приход с церковью
Олл-Холлоуз, расположенный у Лондонской стены. Церковь эта была отстроена
заново архитектором Джорджем Дэнсом Младшим в 1765-1767 гг.
362 ...собственностью сэра Роберта Клейтона. - Сэр Роберт Клейтон
(1629-1707) был членом парламента и мэром Лондона в 1679-1680 гг.
363 Мурфилдс - район болотистых полей за городскими стенами с северной
стороны Сити перед воротами Мургейт, существовавшими до 1762 г.
Заболоченность этого района, согласно одной на версий, объяснялась тем, что
Лондонская стена задерживала ток подземных вод, направлявшихся к Темзе. С
давних времен предпринимались неоднократные попытки осушить этот район.
364 Автор сего дневника, согласно его собственному пожеланию, похоронен
именно на этом земле... - Неожиданно выглядит эта информация, заключенная
Дефо в квадратные скобки с пометой N. В.; неясно, кому она принадлежит: ведь
об "издателе", традиционном в других вещах Дефо, который якобы публикует
мемуары героев-повествователей и пишет к ним "предисловия", в "Дневнике
Чумного Года" ни разу не упоминалось. Такое же недоумение вызывают и
авторские сноски к тексту.
365 ...в Шэдуэлле, где теперь приходская церковь Св. Павла - старинная
церковь, перестроенная в XIX в. (не пугать с собором Св. Павла); Шэдуэлл -
см. примеч. 144.
366 ...квакеры имели в то время собственное кладбище... - Квакеры
(букв.: "трясущиеся" или "трясуны") - члены религиозной христианской общины,
которую сами они называли "Обществом друзей", основанной Джорджем Фоксом в
1647 г.; члены этой общины руководствовались лишь "внутренним озарением",
отрицали институт платных священнослужителей и церковные таинства и
проповедовали пацифизм. В 1662 г. был принят закон, направленный против тех
квакеров, которые отказывались принять присягу: этот закон был связан с
Актом о единообразии 1662 г. (см. примеч. 90); в результате многие квакеры в
60-х годах XVII в. из-за религиозных преследований вынуждены были
эмигрировать в Северную Америку.
Квакеры действительно отказывались от церковного звона по усопшим и
хоронили их, не сообщая об этом приходскому служке. Вот подтверждение тому
из частного письма Дж. Тиллисона настоятелю Сэнкрофту: "Квакеры (как нам
сообщили) похоронили в отведенном у них месте тысячу человек за несколько
последних недель <...> многие другие места в городе также не учитываются в
еженедельных сводках смертности".
367 "Кафедра сдается внаем"... - Подобные надписи упоминает и Томас
Винсент в памфлете "Грозный глас Господен в столице": "Теперь некоторые
священники (которых ранее выгнали из их приходов, но которые остались в
столице, когда множество представителей Высокой церкви сбежало в сельские
местности и от чумы, и от собственной паствы) увидели, что люди, стоящие на
пороге могилы и вечности, призывают духовных целителей; и вот, когда они
увидели, что двери церквей распахнуты, кафедры опустели, а по улицам
развешены памфлеты о "Кафедрах, которые сдаются внаем", то рассудили они,
что Законы Природы и Господа Бога повелевают им вновь начать проповедовать в
публичных местах, хотя Законы людей и запрещают им это" (см. также примеч.
90).
368 ...ввергла всех нас в кровавые беспорядки. - Имеется в виду период
революции и гражданской воины.
369 Закон об освобождении от уголовной ответственности... - закон,
принятый Карлом II, согласно которому лица, принимавшие участие в
гражданской войне на стороне республиканцев, освобождались от уголовной
ответственности.
370 ...будут угрожать им законами против нонконформистов... - Имеются в
виду четыре акта, составляющие так называемый Кларендоновский кодекс (см.
примеч. 90).
371 ...атаковать саму Смерть на бледном ее коне... - апокалиптический
образ: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя
"смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли
- умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными" (Откровение
Иоанна Богослова, 6:8).
372 ...болезнь так резко пойдет на спад... - Некоторые исследователи
полагают, что Дефо преувеличил быстроту этого процесса: ведь даже в 1666 г.
лондонская чума унесла две тысячи человеческих жизней.
373 ...многие из них не только рисковали жизнью, но и расстались с нею
за время этого бедствия. - О пострадавших от чумы врачах пишет доктор
Ходжес: "Восемь-девять человек из тех, кто занимался этой работой и кому
общий враг нанес особенно большой урон, погибли; и среди них был доктор
Коньерз, чьи доброта и благородство снискали себе вечную память тех, кто
пережил его". О самоотверженном поведении другого врача Уильяма Богхерста во
время чумы узнаем из его собственного сочинения ("Лоймотология", 1665):
"Обычно я перебинтовывал человек сорок больных за день, слушал их пульс,
пока они пропотевали в постели в течение семи-восьми минут, чтобы составить
представление для себя самого о всяких неожиданностях болезни. Я пускал им
кровь, правда немногим; по полчаса поддерживал их в постели, помогая
бороться с удушием, не раз ощущал их дыхание, в то время как они
расставались с жизнью, ел и пил с ними вместе, просиживал часами у их
постелей, когда позволяло время, и не раз оставался, наблюдая за тем, как
наступает смерть, а потом прикрывал покойникам глаза и рты (потому что,
когда они умирали, глаза оставались выпученными, а рот - приоткрытым), а
затем, если нужна была помощь (а в те времена помощи ждать было почти что
неоткуда), я помогал и уложить покойника в гроб, и проводить его до могилы".
374 Городской голова (ист.) - выборное должностное лицо, чьи
обязанности мало чем отличались от обязанностей констебля.
375 ...в те три первые недели сентября хоронили почти по двадцать тысяч
в неделю. Однако другие оспаривают достоверность таких утверждений... -
Ходжес приводит меньшую цифру, но все равно значительно превышающую
официальные отчеты: "К началу сентября болезнь достигла наивысшей точки; в
течение этого месяца за неделю умирало более двенадцати тысяч".
376 Коллегия врачей ежедневно публиковала рекомендации, которые врачи
учитывали в собственной практике... - О самоотверженных, но тщетных попытках
врачей бороться с заразой пишет доктор Ходжес: "Правительство озаботилось к
публичным молебнам присовокупить всю ту помощь, которую могла предложить
медицина. Его Величество, стремясь к помощи Неба прибавить возможные людские
усилия, монаршею властью приказал Коллегии лондонских врачей соединенными
усилиями написать на английском языке какие-то общие указания, применимые в
сих бедственных обстоятельствах. <...> Однако врачи, к стыду своему,
вынуждены были признать свое поражение: все их труды и старания шли прахом,
потому что болезнь, подобна головам гидры, - как скоро оказывалась
истребленной в одной семье, тут же возникала во многих других семьях, так
что вскорости мы осознали, что задача непосильна, и отчаялись положить
предел заразе".
377 ...о судьбе одного из таких шарлатанов, который опубликовал
объявление, что нашел самое надежное предохранительное средство <...> однако
заболел и через два-три дня умер. - Доктор Ходжес отмечает, что
распространению болезни "ничто так не способствовало, как поведение
шарлатанов, наглость и невежество которых нельзя обойти молчанием. Они были
неутомимы в распространении противоядий; и хотя они не имели ни знаний, ни
врачебного опыта, они почти каждому вручили какую-нибудь пакость с
претенциозным названием. Никогда еще страна не облагалась столь вредоносной
пошлиной: ведь реальные события полностью противоречили их утверждениям, и
едва ли кто уцелел из доверившихся их обману. Их лекарства оказались более
смертоносны, чем сама чума, и умножили общую цифру смертей. Но и сами эти
пособники чумной заразы не избежали общей участи и собственной смертью
отчасти искупили попустительство магистрата, не запретившего их практику".
378 "Венецианский сироп" - популярное в то время лекарство, состоявшее
из 60 или 70 компонентов, замешанных на меду; считалось, что оно прежде
всего помогает от укусов ядовитых животных.
379 ...ее название связано с мясниками, которые <...> имели, говорят,
обыкновение надувать при помощи трубочек мочевые пузыри, чтобы мясо казалось
тучнее... - О повадках мясников Дефо был хорошо осведомлен, так как его отец
был членом корпорации мясников; в цех мясников по отцовской протекции был
записан и двадцатитрехлетний Дефо: не случайно здание цеха мясников в
Лондоне украшено витражом с изображением английского романиста. Однако оба
они почти не занимались мясной торговлей: Джеймс Фо торговал свечами, а его
сын - разнообразными галантерейными товарами (недаром недоброжелатели и
много лет спустя презрительно именовали его "галантерейщиком"), а также
винами, духами и табаком.
380 ...никто не может управлять страхом, когда он овладевает человеком.
- Тема неконтролируемого страха очень занимала Дефо как писателя. Это
очевидно уже в первом его романе. Робинзон живет на острове в постоянном
напряжении и страхе - "болезни, расслабляющей душу, как тело расслабляет
физический недуг", - страхе диких зверей, грозы, землетрясения, страхе,
вызванном окриком попугая, сверкающими глазами козла в темноте или следом
человеческой ноги на песке, страхе дикарей, страхе пиратов... Дефо
углубляется в нюансы этого психологического состояния, унижающего человека,
лишающего его способности здраво мыслить и рассуждать, "На основании
собственного опыта могу сказать, что ничто не делает человека таким жалким,
как пребывание в беспрерывном страхе", - пишет Дефо в "Дальнейших
приключениях Робинзона Крузо".
381 ...к следующему февралю мы могли утверждать, что болезнь полностью
ушла. - Такое утверждение не совсем соответствовало действительности, так
как в течение всего 1666 г. неоднократно фиксировались случаи заболевания
чумой (см. примеч. 372).
382 Темз-стрит - улица в Сити, идущая параллельно Темзе.
383 ...было совершенно очевидно, что она вовсе не затронула флот, -
Одна из немногих невольных неточностей "Дневника": во флоте было много
случаев заболевания чумой, однако их тщательно скрывали, и данные о чуме на
флоте не просочились в те печатные источники, которыми мог пользоваться
Дефо.
384 ...люди неохотно шли во флот, а многие жаловались, что их затащили
силой... - В те времена действительно существовали отряды насильственной
вербовки во флот, реже - в армию.
385 В тот год у нас были горячие схватки с голландцами и одно большое
сражение... - Имеется в виду сражение при Ловештофте 3 июня 1665 г., когда
голландский флот в сто кораблей под началом Якоба Опдама атаковал английский
флот, однако был разбит и, после потери семнадцати кораблей, укрылся в
Текселе.
386 ... когда мы вполне могли бы сказать: "Тщетна помощь человеческая".
- Эту библейскую цитату, упоминаемую в Псалтири дважды (59:13 и 107:13), нам
пришлось привести не в каноническом русском варианте: "Подай нам помощь в
тесноте, ибо защита человеческая суетна", - а в более подходящем по
контексту переводе английской фразы: "Vain was the help of man".
387 Я мог бы долго рассказывать о глупостях и безрассудствах, которые
совершались в первом порыве радости не реже, чем в первом порыве горя... -
см. примеч. 351.
388 И вот, в самый разгар отчаяния <...> Богу угодно было дланью Своей
внезапно обезоружить врага - жало лишилось яда. Это было столь удивительно,
что даже врачи не могли не изумляться. - Доктор Ходжес, отмечая
необъяснимость спада болезни, как и ее начала, говорит все же о ее
постепенном затухании: "Однако худшая часть года была уже позади, позади был
и самый разгар болезни; чума понемногу, не торопясь, стихала, так же
постепенно, как в свое время она начиналась; еще до того, как число больных
уменьшилось, стала стихать ее ярость, так что теперь умирали немногие,
главным образом те, за кем был плохой уход. Теперь прошел и ужас, охвативший
всех; больные с радостью переносили все средства, направленные на
выздоровление, и даже сиделки стали более заботливыми и порядочными; таким
образом, заря здоровья взошла так же внезапно, как внезапно стихло пламя во
время последовавшего пожара, когда, уничтожив столько домов и не обращая
внимания на все старания людей прекратить пожар, пламя стихло, будто по
собственной воле, не то из-за нехватки топлива, не то, устыдившись, что
поглотило столько домов. Чума, однако, стихала не из-за нехватки людей (хотя
многие так и утверждали), а из-за природы самой болезни, согласно которой и
начало, и конец ее были довольно скромными".
389 ...если из десяти излеченных прокаженных только один вернулся,
чтобы принести благодарность... - Имеется в виду следующий евангельский
эпизод: "Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею. И когда
входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые
остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они
шли, очистились.
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не
возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя". (Евангелие от Луки,
17:11-19.)
390 ...они подобны сынам Израиля - те, спасаясь от орд фараона,
переправились через Красное море, обернулись и, увидев, что египтяне гибнут
в воде, "они пели Ему хвалу, но вскоре позабыли дела Его". - Имеется в виду
эпизод из Исхода (главы 14-16).
Основные даты жизни и творчества Даниэля Дефо
1660 Родился в Лондоне; точная дата рождения не установлена.
1668 Смерть Алисы Фо, матери писателя.
1670-е Учится в начальной школе преподобного годы Джеймса Фишера в
Доркинге в 25-ти милях от Лондона.
1674(?) - Учится в "Академии" преподобного Чарлза 1678(?) Мортона в
Ньюингтон-Грин (Миддлсекс); готовится к духовному поприщу.
1678-1681 Отказывается от принятия сана; занимается всякого рода
торговлей, в том числе связанной с импортом и экспортом товаров.
1683 Первый политический памфлет (ни одного экземпляра не сохранилось)
{Здесь и далее при указании произведений Дефо имеется в виду не время
написания, а год публикации.}.
1684, январь Женится на двадцатилетней Мэри Таффли, дочери бочара с
приданым в 3700 фунтов.
1685, июнь-июль Присоединяется к восстанию "протестантского герцога"
Монмута в Соммерсетшире.
1685-1692 Совершает ряд поездок по Великобритании и на континент по
коммерческим делам.
1655 Политический памфлет против Якова II.
1688, ноябрь-декабрь Едет в Хенли, чтобы присоединиться к силам
Вильгельма Оранского.
1690, апрель "Размышления о недавней великой революции", брошюра в
поддержку Вильгельма III.
июнь Находится в свите Вильгельма во время его поездки в Ирландию.
1690-1691 Сотрудничает в газете Дантона "Афинский Меркурий".
1692 Частые кораблекрушения в военное время приводят Дефо,
занимавшегося страховкой судов, к банкротству; его долг составляет 17 000
фунтов
1694 Получает должность ответственного за уплату нововведенного
"оконного сбора"; остается на этой должности до 1699 г.
1695, октябрь Впервые прибавляет частицу "де" к фамильному имени в
газетном сообщении о проведении "Королевской лотереи", устроителем которой
он выступал трижды в 1695-1696 гг.
1696-1697 Становится совладельцем кирпично-черепичного завода в Тилбери
(Эссекс).
1697 "Опыт о проектах".
1701, январь Сатирическая поэма "Чистопородный англичанин" в защиту
Вильгельма III.
май Вручает Роберту Харли как спикеру палаты общин "Обращение от имени
легиона".
декабрь Крещение младшей дочери Софии.
1702, декабрь Сатирический памфлет "Простейший способ разделаться с
диссидентами".
1703 Судебное преследование и обвинительный приговор за публикацию
"Простейшего способа"; сам памфлет по приговору суда предан публичному
сожжению.
27 апреля Публикация Джоном Хау первого (пиратского) издания памфлетов
и стихотворных сатир Дефо.
20 или 21 мая Повторный арест; заключение в Ньюгейтскую тюрьму.
22 июня Публикация "Истинного собрания сочинений", в которое вошли
двадцать два произведения Дефо - трактаты и поэмы; на фронтисписе помещен
первый из известных нам портретов Дефо.
29, 30, 31 июля По приговору суда стоит по часу в день у позорного
столба. В толпе распродают в это время его "Гимн позорному столбу".
ноябрь Освобождение из тюрьмы при посредничестве Роберта Харли; долги
Дефо уплачены короной. С этого времени и до 1714 г. работает как
пропагандист и осведомитель при правительстве тори, возглавляемом Робертом
Харли.
1704 Публикация очерка "Буря, или Собрание наиболее достопримечательных
событий во время недавнего страшного урагана, пронесшегося над Ла-Маншем в
конце ноября 1703 года".
1704, февраль Начинает издавать "Обозрение"; издание просуществовало до
1713 г.
июль Официальное представление королеве Анне.
сентябрь Публикация "Правдивого описания призрака некоей миссис
Виль...".
1706 Сатирическая поэма "Jure Divino" и поэма "Каледония", посвященная
Шотландии.
1706, декабрь Смерть отца писателя Джеймса Фо.
1706-1707 Частные поездки в Шотландию.
1710 Смерть дочери Марты.
1706, январь Селится в Сток-Ньюингтоне, северном пригороде Лондона;
сохраняет дом в Сток-Ньюингтоне до конца своих дней.
1709 Публикует исторический очерк "История унии" (акт об унии между
Англией и Шотландией был подписан в марте 1707 г.).
1713, март Новый арест за неуплату долгов; по ходатайству Р. Харли
освобожден; долги частично выплачены.
апрель Арестован за публикацию в "Обозрении" статьи "А что, если
вернется Претендент?" и некоторых других публикаций. Освобожден через двое
суток, но приговорен к уплате штрафа в 800 фунтов. По требованию
правительства приносит извинения русскому послу в Лондоне за публикацию в
"Обозрении" критических высказываний о Петре I.
1715 Выходят в свет "Семейный руководитель", сборник дидактических
диалогов на религиозные и бытовые темы и "История войн Карла XII".
август Еще один кратковременный арест за оскорбление в печати лорда
Энглси; продолжает работать как пропагандист и осведомитель при новом
(вигском) правительстве.
1716, май Издает газету "Mercurius Politicus" ("Политический
Меркурий").
1717, лето Начинает сотрудничать в "Еженедельнике", издаваемом
Натаниэлем Мистом.
1719, 25 апреля "Жизнь и странные необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо" выходят в свет в Лондоне в типографии Уильяма
Тейлора.
август Четвертое издание первой книги о Робинзоне совместно с
"Дальнейшими приключениями Робинзона Крузо"; тогда же выходит в свет
"Исторический отчет о путешествиях и приключениях сэра Уолтера Рэли".
1720 "Жизнь и приключения Дункана Кэмпбелла", "Записки кавалера",
"Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона". Первые
переводы "Робинзона Крузо" - на немецкий и французский языки.
середина лета Поездка в Париж.
август Публикация третьей книги, связанной с Робинзоном: "Серьезные
размышления в течение жизни и удивительных приключений Робинзона Крузо, с
присовокуплением его видения ангельского мира".
1722, 27 января "Радости и горести знаменитой Молль Флендерс" изданы в
Лондоне книготорговцем Четвудом. В тот же год выходят "Дневник Чумного Года"
(17 марта), роман "История достопримечательной жизни полковника Джека" и
"Религиозное ухаживание, представляющее собой исторические рассуждения о
необходимости вступать в брак лишь с религиозными мужьями и женами".
Последние поездки по стране с целью отбора и уточнения материала для
задуманной книги путешествий.
1723 "Беспристрастная история жизни и деяний Петра Алексеевича,
нынешнего царя Московии".
1724 "Великий закон субординации, или Наглость и невыносимое поведение
английских слуг", роман "Удачливая любовница, или <...> Роксана", "Новое
кругосветное путешествие", "История удивительной жизни Джека Шеппарда",
"Путешествие по всему острову Великобритания" (выходило в свет тремя томамн
примерно с годовыми интервалами; последний том, имевший на титуле 1727 г.,
реально вышел в августе 1726 г.).
1725 "Совершенный английский негоциант" (1725-1727), "Правдивый рассказ
о жизни и деяниях Джонатана Уайлда".
1726 "Опыт о литературе, или Исследование о древности и происхождении
письма", "Краткий исторический отчет о жизни шести известных уличных
грабителей", "Система магии", "Политическая история дьявола".
1727 "Отчет об истории и реальности привидений".
1728 "План английской торговли", "Мемуары английского офицера", "Atlas
Maritimus and Commercialis".
1729 "Мадагаскар, или Дневник Роберта Друри", последняя из
беллетризованных биографий, написанных Дефо.
1729, декабрь - 1730, октябрь Редактирует еженедельник "Политическое
положение Великобритании".
1730, 15 декабря "Надежная схема по немедленному предотвращению
уличного воровства", последняя прижизненная публикация Дефо.
1731, 24 апреля Смерть Дефо в Лондоне (на Роуп-Менкерс-Элли, Сити).