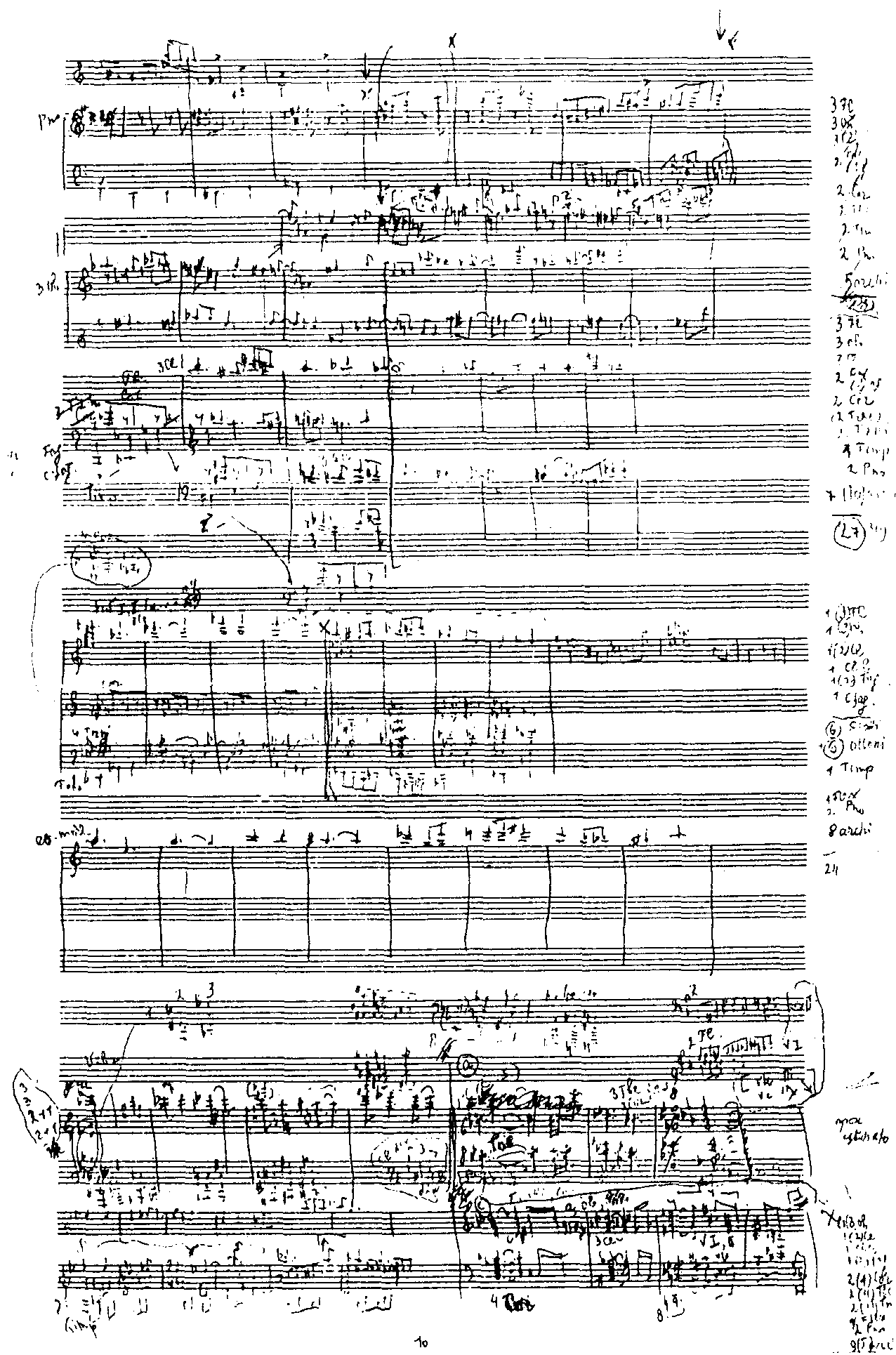
А.Ш.
Почти то же самое, оказалось, все на том же месте. Восстановлено все, что было разрушено. Изменились витрины. В 1946 году одним из самых ярких впечатлений были железные жалюзи, которые опускались во всех магазинах. Тогда в субботу и воскресенье была тоска смертельная, потому что все окна были закрыты. Все было серое. А сейчас жалюзи нет, стеклянные сверкающие витрины почти повсюду. И машины, огромное количество машин по сравнению с тем временем.Было очень странно вернуться в Вену почти через тридцать лет и сидеть в том же зале
Musikverein'a, но только на сцене в качестве "фальшивого" клавесиниста во время исполнения своего же сочинения -Первого concerto grosso. А потом еще исполнение кантаты о Фаусте в Konzerthaus'e, встреча со старой учительницей. Все это до неприличия рифмуется. ...Как будто бы я не имел права попасть в Вену до того момента, пока я не смогу вернуться именно в этом качестве. А на промежуточных стадиях не мог, не имел права приезжать.- Я не знал раньше,
что после Вены ты учился на дирижерском факультете училища и даже дирижировал хором.- Ты тогда еще ничего не писал?
Беседы с Альфредом Шнитке 31
покупал все подворачивающиеся мне книги по теории и "Основы оркестровки" Римского-Корсакова,
учебники по гармонии и форме, но разобраться одному в этом было трудно. Когда приехали из Вены, меня повели в 1948 году к преподавательнице Гнесинской школы, которая сказала, что у меня рука неправильно поставлена. Я играл то, что мне хотелось играть. А хотелось, допустим, первую прелюдию из первого тома Баха или Ларго из оперы Генделя Ксеркс. Ничего путного я не играл. Может быть, какую-то сонатину Клементи.Кроме того,
мне все подпортил аккордеон. Аккордеон отцу подарили в Вене в качестве премии - играя на этом аккордеоне, я испортил себе левую руку (там - кнопочные басы, а на рояле - клавиши), и до сих пор еще левая рука не догнала правую...Весь этот год между Веной и училищем я хотел заниматься музыкой,
но понимал, что поздно. Хотел сочинять. Первое, что бросился сочинять, - был Концерт для аккордеона с оркестром - идиотская идея, чепуха полная. И весной 1949 года - мы еще за городом жили, в Валентиновке -повезли меня в музыкальную школу в Лосиноостровском, где сказали, что мне надо учиться, но уже поздно и можно только на контрабасе. Предполагалось, что я буду учиться на контрабасе как переросток.И совершенно случайно,
когда я уже собирался идти в восьмой класс и учиться на контрабасе, отец встретил одного знакомого, у которого в гостях был бухгалтер музыкального училища. Этот бухгалтер дал мне записку к заведующему учебной частью. Завучем этим был теоретик Борис Константинович Алексеев. Меня послали на экзамен по сольфеджио. Диктант я написал. А по элементарной теории отвечал таким образом (у меня нет абсолютного слуха): все ноты называл по до мажору, но правиль -но. И меня зачислили в училище. Мне было почти пятнадцать лет.Родители,
конечно, так и не поняли, почему я занимаюсь музыкой, что я делаю. В какой-то степени это понимал отец, как журналист, знакомый с музыкой, слышавший что-то. Но совершенно не понимала мать. Как я узнал недавно, в последние годы жизни она была в ужасе от того, что я делаю.Дома ничего,
помогающего стать музыкантом, не было. Брат и сестра относились к моим занятиям не особенно радостно. Когда я поступил в училище, мне было куплено пианино - оно сейчас стоит у моего брата. Представь себе: две маленькие комнаты. В одной отец, работающий, а в другой, маленькой - мы с братом и сестрой, да еще пианино... Поддержки в доме в таких стесненных условиях я не ощущал. Я ощущал ее у своего педагога в училище - Василия Шатерникова. Правда, не тому, что я сочинял, а тому, что играл. К моим композиторским опытам он относился крайне критически.- Вы жили в Валентиновке,
под Москвой? Недавно я, кстати, побывал в этом доме - теперь, в сильно перестроенном виде, это - дача пианиста Владимира Виардо...Беседы с Альфредом Шнитке 32
А.Ш.
Да, мы жили в Валентиновке... В отношении моих занятий музыкой все было абсолютно вне логики и гарантий. И то, что мне повезло с учителями - Шатерниковым, у которого я учился по фортепиано, потом попал к Иосифу Рыжкину, а позднее - к Евгению Голубеву. Но и у Шатерникова, и у Рыжкина, и у Голубева были десятки учеников и до, и после меня, которые не достигли того, чего достиг я, у них занимаясь. Значит, что-то решающее было во мне самом, что - не знаю. Не было музыкальной среды - ни среди знакомых, ни среди соседей. Я бы мог, скажем, назвать мою раннюю увлеченность литературой - еще в детстве, в начале войны - она могла бы предопределить занятие литературой. Но м у з ы к у ничто не предвещало. И это меня укрепляет в мысли, что все предопределено, что - наряду со слоем иррационального - существует и слой предопределенности, которая простирается на десятилетия, на всю жизнь, и на многом сказывается.Я не прошел естественного детского пути постепенной учебы,
и поэтому поступление и обучение в училище было для меня большим скачком. А скачок всегда требует последующего заполнения. Поэтому я считаю, что вся эта игра стилями, все эти стилизации, на которые меня так тянет, - это какая-то попытка восполнить недополученную в детстве по части музыкального образования эрудицию, в е р н у т ь с я в д е т с к о е восприятие классики. Однако скачки бывают не только в личной судьбе.То,
что мои предки двести лет назад уехали из Германии, - для меня тоже явилось скачком: я эти двести лет как бы должен пережить и восполнить. Может быть, и этим тоже вызван интерес к стилизациям и старой музыке - музыке того времени, когда они уехали.У меня вообще ощущение человека,
всеми обстоятельствами поставленного вне реальных нормальных соотношений. Смотри: живет в России человек, не имеющий ничего русского, наполовину еврей, наполовину немец. Причем его немецкие предки - как раз двести лет прожили в России и все выросли здесь. Еврейские предки: отец родился в Германии, будучи евреем с немецкой фамилией. Фамилия моя ведь нетипичная для евреев, а типичная для немцев.- Как это могло получиться?
А.Ш.
Мои еврейские предки жили в Прибалтике, под Ригой, где вообще-то евреям нельзя было жить. Но кто-то из предков был рекрутом при Николае I. Рекруты служили двадцать пять лет, и те, кто отслужил эту службу, получали право жить вне черты оседлости.Евреям там давали фамилии
, и они большей частью брали себе красивые фамилии - Гольденберги, Розенберги. Часть евреев брала еврейские фамилии, например, Коганы или Кацы. Кац - это не "кошка", это другое, я не знаю что. Также, как и Зак - это не "мешок". Это скорее Цадик (Цак, Зак) - царь. Были и анекдотические фамилии. Например, фамилия Атливанник: писари, когда давали фамилии, издевались - вот, будешь Атливанник.Беседы с Альфредом Шнитке
33Но,
видимо, была возможность взять и любую другую фамилию. Мой предок взял фамилию пастора-немца, у которого не было семьи. Как пастор, он имел право жениться, но у него не было жены. И он убедил моего предка, еврея, взять эту фамилию. Поэтому он стал Шнитке, будучи евреем.И так во всем - путаница. Я,
родившийся в Энгельсе, в центре Республики немцев Поволжья, но не высланный, как все немцы. Мать -немка, а отец - еврей, хотя и Шнитке. Как будто бы сделано все, чтобы я был в таких обстоятельствах, которые не дают никакого шанса быть евреем - я и языка не знаю еврейского. Знаю лишь некоторые слова. И родной язык - русский, хотя немецкий - очень примитивный - я изучил раньше...- И в какую же сторону тебя больше тянет?
- Ты считаешь это справедливым?
А.Ш.
Если говорить серьезно: знаешь ли ты мотивировку, с которой Соня Губайдулина получила премию в Монте-Карло? Мотивировка была такая, что ее музыка - ярко национальна и обладает типичными русскими чертами. Да-да, русскими. И Денисов пережил тo, что он зa границей признан русским. И Соня, и даже я.- Все же основной персонаж твоей музыки - это,
конечно, не русский персонаж. Ас другой стороны, поднимаемые в твоей музыке проблемы только здесь и могут быть подняты. Более того: эти проблемы обычно музыкой вовсе не поднимаются. Одно из мнений, которое я услышал в Америке о твоей музыке: ты стремишься разрешить гораздо больше проблем, чем вообще нужно разрешать в музыке. И это, с их точки зрения, типично русская черта. Ну, а если серьезно - чувствуешь ли ты какую-то связь с прошлым России? Или для тебя более важен контекст, комплекс проблем страны, в которой ты живешь, а не их сугубо национальная окраска? Есть ли точки соприкосновения еврейского, немецкого и русского в твоей музыке?А.Ш.
Я думаю, что теоретически это то, то повторяется в ненационально ориентированных культурах. Ну, например. Какой-то композитор, живущий в США,- в его судьбе все эти три начала могут проявиться. Можно себе представить, что я, допустим, переселился в США, а мой сын Андрей там вырос. Наверное, это породило бы иной круг проблем, где взаимодействие трех культур приобрело бы другой оттенок. Там было бы такое взаимодействие, когда изначальная предопределенность значения не имелаБеседы с Альфредом Шнитке
35бы. В то время как я живу в стране,
где первоначальная предопределенность сохранилась. И поэтому это стало проблемой.Я перебирал,
кто в подобных ситуациях находился. Более близкого случая, чем неинтересный Цезарь Кюи и Николай Метнер, - я не нашел. Были фигуры, которые как бы не проросли, вроде Блуменфельда. Но ни одной фигуры, которая бы на этом крючке повисла, я не нашел в русской музыке.Хотя исполнители подобные есть: .Рихтер и Нейгауз. Но это другое дело: исполнитель в итоге находит себе выражение,
и это дает ему некие качества, которые определены его немецкой сущностью.Больше подобных примеров можно найти в русской литературе и среди ученых. Вообще же в русской художественной культуре мало нерусских. Есть поляки - Шостакович,
например. Но преимущественно -русские.- Почему ты такое значение придаешь национальному в себе?
- Чем ты обязан России?
А.Ш.
Очень многим. Эмоциональным складом, который не был бы таким, живи я, скажем, в Америке.- А русской литературе?
А.Ш. Все-таки наибольшее влияние оказал Достоевский. И продолжает оказывать, потому что сохраняет то первоначальное качество нераскрываемости его произведений и при втором, и при пятом, и при десятом чтении. Он как бы никогда не бывает понят весь. Причем у меня много претензий к нему - и личных, и внеличных. Он - антисемит номер один. Это первое. Второе: вся его предрасположенность к игровому, игре, психологическому поединку. Это всегда как бы ситуация карточной игры, возведенная на очень высокую ступень,- но все равно от карточной игры идущая. И тем не менее в нем есть нечто настолько высокое, идеальное, что логикой никогда не будет исчерпано.
Получилось так, как миллионы раз бывало,- человек потерял и выиграл оттого, что потерял.
- Об этом - эпиграф Братьев Карамазовых...
А.Ш. Вся его адова жизнь, когда надо было гнать книги со страшной скоростью и некогда было их отделывать, захлебывающийся тон - все это и дало ему огромное преимущество, уж не говоря о гигантских концепциях... Великий инквизитор - это поразительно!
Потом, конечно, Пушкин, который изначально вместил всю дальнейшую русскую историю. Он вместил в себя все ее проблемы, в том числе и те, которые еще только грядут. Они уже есть у него - причем на каждом шагу. Вчера случайно в Каменном госте прочел: "Одной любви музыка уступает". Это абсолютно гениально! На каждом шагу, всюду - гениально.
В этом смысле Толстой кажется стоящим на много ступеней ниже. Потому что - при всей его величине - этот верхний иррациональный
Беседы с Альфредом Шнитке 36
уровень как бы не достигнут.
- А какое отношение к Чайковскому? Ведь он не совсем "русский" композитор.
- Нет,
не поляк. Доказано, что это - украинская фамилия.- Ho в какой степени она кажется тебе русской?
У Чайковского все было равномерно распределено - на хороший и средний уровни. И вот из такого хорошего среднего уровня вырываются такие вещи,
как Шестая симфония. Никакой логикой ты это не объяснишь.- Кто же остается наиболее почитаемым тобой русским композитором?
- Есть ли у тебя какое-нибудь отношение к Антону Рубинштейну?
А.Ш. Никакого. Причем я не вижу еврейского в нем. Я мало знаю его музыку. Мне ясно одно: это был несомненно талантливый, но и несомненно поверхностный человек. То, что талантливый, видно по Демону -хору Ноченька, арии Демона и многому другому. Или, скажем, теме Четвертого концерта. Или - Персидские песни. Думаю, что остальное- правильно забыто.
- Еврейский пласту тебя ближе всего к Малеру, русский - к Шостаковичу. А немецкий?
А.Ш. Я не могу сказать, кто из немецких композиторов оказывал на меня наибольшее влияние. Берг, конечно. Малер перед этим. Из прошлого -Шуберт и в какой-то степени Моцарт. И как далекий, недостижимый идеал
- Бах. Бах сейчас стоит для меня в центре всего. Это тот центр, то солнце, которое светит во все стороны. Чем бы я ни занимался.
Для меня родное немецкое - это то, что было двести лет назад, что было у немцев до их переезда в Поволжье. Может быть, родственность этой сферы усугубляется и тем, что два года - с четырнадцати до шестнадцати лет - я был в Вене. И у меня поэтому ощущение, что Моцарт и Шуберт - из моего детства. Не только прекрасная музыка, но и из моего
Беседы с Альфредом Шнитке 37
детства,
хотя следов моих предков в то время в Германии и Австрии уже не было. А вот мир французской литературы и французской музыки для меня остался совсемчужим. Франция, Италия - для меня чужие миры.- Даже к Монтеверди не было интереса?
Конечно,
если взять Леонардо или Данте - это совсем другое. У меня ощущение, что дyxовная наполнeннocть yшлa из Италии - может быть, в Германию... - Ну, а как быть с французской или итальянской готикой, я имею в виду архитектуру?А.Ш.
Но это все - до шестнадцатого, до пятнадцатого века. Я, кстати, не воспринимаю Машо как чужого.- А Монтеверди - чужой?
- Какие немецкие черты ты сам мог бы назвать в своей музыке?
А.Ш. Во-первых, тяготение к продуманности. К анализируемости. Музыка должна иметь для меня окончательную сущность. Я должен понимать, п о ч е м у , ч т о , к а к а я сделал.
Представление о том, что музыка мною не пишется, а улавливается -также изначально связано для меня с немецкой сущностью музыки. Это как бы та тяжесть, неповоротливость, тяжестью связанная масса, которая к этой музыке привязана со всеми плюсами и минусами. Скажем, я понимаю, что музыка советских композиторов (не будем называть по именам) обладает определенными преимуществами перед музыкой современных немецких композиторов. Я понимаю это. Но это меня не интересует. Есть интересы, которые мною не воспринимаются как интересы. Поэтому, скажем, озабоченность Булеза какими-то тончайшими проблемами проходит мимо меня, он мне абсолютно неинтересен!
- Ты говоришь о "тяжести" немецкой музыки. Значит ли это, что ты считаешь немецкую культуру не жизненной, экзистенциальной, а "книжной"? "Тяжесть" есть и у Ксенакиса, но у него это - от эллинского, античного ощущения природного, неосознанного, фатального веса. В твоей музыке этого нет. Вес твоей музыки связан, скорее всего, с массой, суммой умственных усилий. Этот вес суммирует многое - как атмосфера в храме суммирует энергию тех, кто там побывал. В твоей музыке суммируются все, кто был в немецкой культуре и истории. Чего нет у Ксенакиса. Его музыка свободна от этого рода веса. Она наполнена неодушевленным грузом. В твоей же музыке вес одушевлен.
-- А.Ш. На этот счет я хотел бы привести тебе слова Лианы Исакадзе. Когда я был в Тбилиси, она записывала там на пластинку Первый concerto grosso.
Беседы с Альфредом Шнитке 39
Лиана заговорила о немецкой культуре и сказала, что весь этот типично немецкий интерес к природе, к фантастике пироды - носит литературный характер. Немцам присуще культивированное, литературное отношение к природе, которое по существу, мало понятно. Я думаю, что по отношению к немецкой музыке это особенно справедливо. У каждого народа и каждой культуры - своя судьба и свои негативные стороны, от которых отрешиться невозможно. Для немцев логично то, что для остальных - книжно. Для немецкого мозга естественно то, что для другого может быть неестественным.
- Можно ли считать, что русская культура - более иррациональна, а немецкая - более рациональна?
А.Ш. Во мне ведь нет русской крови. Я не стал бы так прямолинейно отождествлять русское с иррациональным, а немецкое - с рациональным.
Беседы с Альфредом Шнитке 40
Но в немецком, во всяком случае, довольно много иррационального.
- В какой эпохе?
А.Ш.
Во всей истории Германии, где рядом с рациональнейшей реальностью всегда было и абсолютно иррациональное. Первая мировая война, фашизм - никакой связи с рациональным это не имеет.- Ну,
а Реформация, Лютер?А.Ш.
Тут надо разделять! Лютер - это одно. А Реформация - это другое. Лютер - это прекрасно, гуманно. А вся Тридцатилетняя война - это чудовищно. И ужасно то, что все эти чудовищные последствия являются последствиями действий разумных, нормальных. Вот это страшно!- Значит,
в русской истории и вообще в русском духе ты видишь и рациональность тоже?А.Ш.
Конечно, да. И рациональность, и иррациональность. В русской сущности, может быть, больше иррационального, а в немецкой - наоборот. Но это только разные соотношения их взаимодействия.- Ты одно время выбирал, к какой церкви принадлежать. Почему ты выбрал католичество, а не православие?
А.Ш.
По языку молитвы, языку восприятия принадлежу не к немецкому миру. Я принадлежу к русскому миру. Для меня вся духовная сторона жизни охвачена русским языком. А вместе с тем я католик. - Именно католик, не протестант?А.Ш.
Да! Я должен продолжить то, к чему я принадлежу. Ведь моя мать была католичкой, от рождения. Она не верила, но все-таки была крещена католичкой. Я должен это продолжить. Я воспринимаю католическую церковь как нечто, может быть, более декоративное, но и более сущностно наполненное, чем...- ...ее более упрощенный протестантский вариант.
То,
что я вместе с тем крестился не в православной церкви, связано также и с личными соображениями. Когда человек с внешностью еврея и с именем и фамилией немца крестится в русской церкви - это непонятно. Получается, извини меня, что я прошу прощения у православной церкви, что я становлюсь перед ней на колени. Я уважаю православную церковь -и больше уважаю, чем католическую. Но я не мог сделать этого внешнего, показного жеста. Вспоминаю, как один из людей, не любивших Александра Гольденвейзера (его многие не любили, и я тоже не симпатизировал ему), ругал его за показное православие. Я не хотел такого. Однажды я был во Львове, была служба в церкви, и когда все пошли к причастию, я встал на колени. Но меня обошли. Только одного меня обошли.- В какой церкви?
Беседы с Альфредом Шнитке
41- В православной церкви каждый должен ощущать себя вместе с другими,
независимо от того, кто эти другие. Молитва, причастие как бы совершаются всеми вместе. Возможно ли для тебя вообще единение с людьми, духовно иными? Возможна ли реальная общность разных людей - или она возможна только на религиозной почве?общность,
которая возникает с людьми - психологическая, независимо от разного уровня жизни, образования. В этом смысле в русском характере есть очень много преимуществ: когда я прихожу в православную церковь, я никогда не чувствую там того, что испытал во Львове. Я бывал неоднократно в православных храмах. Ни один человек никогда не оглянулся, не смерил меня взглядом, не дал ничем понять, что я еврей. Не притворялись же они! Значит, эта мысль просто не приходит в голову. Это - невероятное качество русской православной церкви. И это, по-моему, относится не только к церкви, но и к психологии народа. Антисемитизм, черносотенство, отрицательное славянофильство - есть приращение, а не коренное свойство.Беседы с Альфредом Шнитке 42
В то же время я хочу сравнить католическую церковь на Западной Украине и европейскую католическую церковь. В европейской католической церкви я тоже не ощущал себя чужим. Обостренное внимание было именно на Западной Украине. Получается очень странная вещь: Польша,
Западная Украина - государства, которые больше всего страдали от немцев,- более всего восприняли антисемитизм. А может быть, это потому, что там всегда жило много евреев - такое "коренное" отрицательное к ним отношение.- Не раздражала ли тебя необходимость молиться в храме в присутствии большого числа людей,
и не возникала ли мысль о том, что это лучше делать наедине?Есть какая-то тоска,
которая обостряется в определенные моменты жизни. И она у меня, в частности, обостряется, когда я попадаю в храм. Это - как бы передний край, где незримо присутствуют как ангелы, так и черти. Они в х р а м е присутствуют. Я чувствую ответственность этой ситуации. Ведь не случайно человек более всего уязвим и более всего делает ошибок после посещения церкви. Он обретает силу, но тут же подвергается обновленной опасности.Это верно не только применительно к церкви. Очень часто плохое наступает именно тогда,
когда все хорошо. Успокаиваясь, ты как бы лишаешься нужной тебе тревоги. А надо продолжать ее чувствовать. И храм в этом смысле есть суммирование тревоги и успокоения. Он обостряет оба эти качества.У меня есть и еще одно ощущение: храм является чем-то подобным рентгену - он засвечивает каждого. То,
что в каждом заложено, начинает здесь сильно пульсировать - и хорошее, и плохое. Невероятное энергетическое напряжение храма этим и порождено: невероятным сгущением двух противостоящих сил.- У Чаадаева,
который был, как известно, поклонником католической веры, есть мысли о вреде религиозного догматизма, хотя само соблюдение обрядов он считал полезным для нерелигиозного человека.А.Ш.
При всей правоте Чаадаева и его симпатии к католицизму, я бы все-таки никак не мог быть прокатолическим, живя в России. Говорю сейчас не о себе лично. Я убежден в относительности каждой из ветвей - православия, католицизма, протестантизма и других - и вместе с тем обоснованности каждой из них. Но когда я вхожу в убогую московскую католическую церковь - и в православный храм - у меня совершенно разные ощущения.Беседы с Альфредом Шнитке 43
Я видел в кино две католические церкви здешних немцев в Караганде и еще где-то. Этот фильм снят немецким корреспондентом. Это что-то чудовищное: все недостатки московской католической церкви усугублены там несоизмеримо.
- А как на Западе?
А.Ш.
На Западе это иначе. Я вспоминаю сильнейший для меня момент всего, что связано с верой,- момент крещения меня в католической церкви в Вене. Я это воспринял как очень важное состояние, в котором мне было дано счастье и ответственность находиться. И я понимаю, что это возможно только там, где католическая церковь жива.Я - католик. Но здесь я не хожу в католическую церковь,
а ко мне приходит отец Николай Ведерников, православный священник. И я чувствую, что это правильно. Мне, кстати, показалось, что когда Сергей Аверинцев., критикуя Плаху Чингиза Айтматова, стал на позицию ортодоксального православного верующего человека, он как бы покинул то свободное духовное состояние, в котором живет, и оказался в догматической, плоской позиции. Это скучно-добродетельное и враждебное состояние - нетипично для Аверинцева, равно как и для отца Николая, который никогда не бывает в таком состоянии. Отец Николай - и этим он действует на меня всегда - очень наивный человек. Но очень точно все понимает. И я ставлю его выше многих хорошо говорящих, умеющих хорошо все рассказать.- Если бы ты жил на Западе постоянно,
ходил бы ты в католическую церковь?А.Ш.
Ходил бы, не часто. Отец Николай приходит раз в полгода сюда и исповедует меня. И это всегда, при всей скромности всего, что на столе (распятие),- для меня событие, и я это переживаю до конца. Один раз я не успевал отца Николая до Пасхи увидеть перед отъездом в Германию - и встретился со священником, который работает при немецком посольстве. Он - католический священник, приезжает регулярно, несколько раз в году и живет здесь, иногда по месяцу. Я ходил к нему на исповедь и причащение. И у меня было ощущение потери того огромного веса, который в этом обряде есть, когда рядом - отец Николай.- И ты приписываешь это тому,
что католическая церковь здесь не жива?А.Ш.
Может быть, этому. А может быть, немецкому священнику. А может быть, тому, что нет вещественного содействия церкви. Но у меня впечатление, что в разных местах живут разные церкви. И католическая церковь здесь не живет. А живет православная, и потому, будучи католиком, я здесь должен ходить в православную.- Чем для тебя является посещение церкви? Попыткой остаться наедине с самим собой?
- Тебя влечет стремление разделить с кем-то то,
что ты испытываешь? Тебе безразлично, кто находится вокруг?Беседы с Альфредом Шнитке 44
А.Ш.
Это нужно лично мне. Кто находится вокруг, не имеет решающего значения.- Католическая церковь - менее интимная,
что ли. Православный храм - это инструмент погружения, вхождения во что-то, самроуглубления. А вот готический собор, независимо от того, каким храмом он является,- всегда некая модель мира. Например, Шартрский или Реймский соборы. По ним надо ходить, их необходимо обойти даже снаружи. Для того чтобы по-настоящему находиться там, надо охватить собор сознанием как некий огромный город. В православном храме нет этого. Ты входишь - и мгновенно остаешься наедине с самим собой.А.Ш.
Я бы согласился с тобой, если бы я не мог вспомнить момента крещения.- Это было в соборе святого Штефана?
- А это ощущение замкнутости в себе - гнетет тебя повседневно?
Например,
нет никакой абсолютной временной точки. Эта временная точка - лишь логическая абстракция. На самом деле это, грубо говоря, аккорд точек, который дает не секунду, а часы и дни. Одно и то же - оно не одновременно. Существует какой-то способ охвата этого в одновременности, но не в физическом мире. И тогда можно представить секунду, в которой есть все - и прошлое, и будущее. Весь мир вдруг сворачивается в одну точку. А потом опять эти бесчисленные времена и места - расходятся, разбиваются, разворачиваются.Но такая точка только внелогически может быть представлена. Логически же мы не можем говорить о единой точке. Скажем,
разность времен в разных точках Земли я реально ощущаю как разность. Но я одновременно ощущаю и некую третью точку: вот эти две точки с разным временем на Земле, а третья - там, куда я могу только интуитивно подняться, находясь в этих двух временных земных точках. В иллюзорном измерении я могу представить нечто, где все это сходится - и по времени, и по пространству,Беседы с Альфредом Шнитке 45
по всему -в точку. Но в реальном измерении этого нет...
- Какова природа этого ощущения - воспринимаешь ли ты его как религиозное? Или оно присутствует повседневно?
У меня такое ощущение по поводу всего,
что я пишу. Конечно, я чувствую большую разницу между тем, что я делаю сейчас, и тем, что раньше. Но все равно это все уже было, было, было! Понимаешь? Было! У меня ощущение, что я все делаю уже в тысячный раз!- Если наш мозг выстраивает время линейно,
не является ли обращение к прошлому попыткой избежать этого, преодолеть линейность времени?А.Ш.
Для меня как бы возрастает реальность времени - оно все ближе подступает. И эта возрастающая реальность заставляет меня менять свое отношение ко времени. Раньше многое я писал случайно, в силу внешних причин: кто-то просил, и возникала стилизация или воспроизведение чего-то, что само уже не живо в современности. И вот постепенно во мне окрепло ощущение, что все эти бесчисленные миры других времен продолжают жить. Как бы от каждой точки - целый мир. И в реальности, которая представляется линией (в то время как она линией не является, а существует во многих измерениях), в реальности все это и в самом деле выстраивается в гладкую, хотя и изменчивую линию.Но в действительности это не линия. Это бесчисленное количество выхваченных из разных пространств точек. И вот возникает такое ощущение бесконечного леса времен,
где каждая линия времени - другая, каждое дерево - растет по-своему. И все, что в прошлом возникло, возникло на разных деревьях, но относилось к деревьям, которые живут и сейчас. Другое дело, что в нашей сегодняшней реальности мы забыли о них. Потом опять вспомнили. А они-то продолжают жить, эти деревья. Поэтому и отношение ко всему в прошлом - не как к музейным экспонатам. Я как будто возвращаюсь в этот идеальный лес. Лес, конечно, очень грубое сравнение: я возвращаюсь в это идеальное скопление разнородных существ, и музыка там тоже растет. Вот эта ветвь - видимое, а эта -слышимое, но между ними нет коренной разницы, это ветви одного дерева. И вот поэтому я, имея это ощущение, считаю возможным возвращение ко всему прошлому. Это и не возвращение: что бы я ни делал,Беседы с Альфредом Шнитке 46
я все равно к чему-то возвращаюсь. Нового же нету,
а все, что существует как якобы новое, вся сегодняшняя музыка - это уже было! Было - было -было! И опять растет. Сегодня выросло здесь, завтра - там. А потом еще где-то.А мы,
находящиеся на одномерной линии, которую нам дает жизнь, строим теории, концепции. Я сейчас отношусь с неприятием абсолютно ко всем теориям! Потому что все они - иллюзорные, временные попытки что-то объяснить с точки зрения лишь данного момента. Человек может видеть три точки. Но он же не видит всего остального. И когда он пытается привести все в соответствие с этим остальным, он лишь умножает ложь, потому что бесконечная реальность не открывается никакому логическому разуму. Ее можно только чувствовать. Человек всегда будет - для того, чтобы установить стройность теории, формулировки,- все время будет что-то урезать. И искажать. Поэтому я негативно отношусь к любым теоретическим обоснованиям. Их нет. --- Но для твоей музыки прошлое - это не только возможность воссоздать лес разных миров,
А.Ш.
Сейчас у меня есть ощущение сосуществования всех времен и возможности их появления независимо друг от друга абсолютно всегда.|
2 Техника и сущность. Процесс сочинения. Музыкальные формы |
- В семидесятые годы язык многих композиторов заметно упростился. Причем у тебя он упростился и со знаком плюс, и со знаком минус. Он упростился в том, что ты стал обращаться к шлягерным моделям. И в том, что ты обращаешься к "плюсовым" по своему значению ностальгическим цитатам, к монограммам. Это было и раньше, но в семидесятые годы стало как бы более классическим по оформлению, более доступным для восприятия. Речь стала более расчлененной. Как бы ты сам объяснил упрощение, которое произошло, в частности и в твоей музыке в семидесятые годы? Ведь раньше ты совсем другую музыку писал.
А.Ш.
Ну, как сказать... Уже во Второй скрипичной сонате в 1968 году были некоторые нестерильные, банальные элементы. В Первой скрипичной сонате 1963 года это тоже есть. Другое дело, что в шестидесятые годы, особенно с 1963 по 1968 год, я занимался собственным "ликбезом". Я изучал очень много сочинений Штокхаузена, Булеза, Пуссера, пытался понять их технику, пытался "присвоить" технику, то есть все это перенять, научиться и адекватным образом мыслить. Это диктовало и определенную эстетику, которую я некоторое время принимал и пытался себя в нее втиснуть. И от этого именно и испытывал ощущение неудобства и шизофрении. Потому что мало того, что я был вынужден продавать свое тело в кино - и пытался себя "отмыть" этой "серьезной" работой: я чувствовал, что и в этом всем была для меня ясная ложь. Ложь - в пуристской эстетике тогдашнего музыкального авангарда.А потом благодаря алеаторике и коллажам появилось нечто иное. А у Кейджа - и раньше было,
Кейджа в пуризме не обвинишь.Но все-таки гипноз рациональной техники был тогда сильнейшим. Это было мне необходимо и нужно тогда: как-то дисциплинировать свою работу. В 1962 году я закончил оперу,
Слава Богу, не поставленную. ЯБеседы с Альфредом Шнитке 49
давно исключил ее изо всех своих списков. Это Одиннадцатая заповедь
, опера про Клода Изерли, про летчика, участвовавшего в первой атомной бомбежке, который потом рехнулся, мучился невозможным образом. Этакая демагогически-конъюнктурная фантазия. Это было мне предложено в 1961 году Георгием Ансимовым по рекомендации, между прочим, почему-то Шостаковича (он знал уже тогда Нагасаки). Шостаковичу предлагали этот сюжет, естественно, он не взялся за него и порекомендовал меня. И там я делал многое, чего я потом не делал, а теперь опять стал делать: стилистические сопоставления, многослойные коллажные постройки. Позднее я с удивлением обнаружил все это как существующее в реальном музыкальном обиходе. Использование додекафонной техники в качестве негативной музыки - главный порок этого сочинения. Там была попытка разделить позитивное и негативное по материальному признаку. Сиропное, тональное, немножко орфовское - было позитивным. А вот бомба и все, что с ней связано, - додекафонным. Сам музыкальный материал был очень неплох. И вместе с тем это была откровенная эклектика, смешение стилей, но именно этим сейчас она мне и интересна, как абсолютно неудачный, но все же полезный для меня опыт.- Но ставиться это не будет?
А.Ш.
Ни в коем случае! Слава Богу, и партитуры нет, это невозможно поставить. Есть только клавир.Постепенно произошло какое-то взаимодействие того,
что я в прикладной музыке писал, с тем, что я писал для себя. Взаимодействие не как механическое смешение, а какое-то концепционное сближение, что-ли. Я понял, что я отвечаю за все что пишу. Нельзя рассматривать что-то только как прикладное, ко мне не относящееся, а я - вот здесь, чистенький, в этих серийных сочинениях. Мне казалось, что это для меня неприемлемо, да и сама по себе позиция такого "пуризма" казалась мне чужой. Наверное, моя природа такая, что я не могу добиться чистоты, наверное, не могу. Поэтому мне и нужно было смешение того и другого. Я знал, конечно, о приемах соединения разных стилей, я знал об опере Анри Пуссера Ваш Фауст. Не музыка (когда я услышал ее, она не произвела на меня сильного впечатления), но сама идея оперы, ее концепция - идея путешествия по временам, идея стилистических гибридов - вот это показалось мне интересным. Я в тот момент и музыки Айвза-то как следует не знал. Солдат Б. А. Циммермана не знал. Я знал только эту и д е ю Пуссера.И в 1968 году я решил,
что можно сопоставлять стили в шокирующем контрасте, - в первый раз я это сделал \во Второй скрипичной сонате. И почувствовал какое-то освобождение. И в это же время я стал думать о Первой симфонии, которой занимался четыре года, пока в 1972 году ее не закончил, где эти стилевые сопоставления, быть может, в максимальной степени проведены. И таким образом, то, что для меня было всегда естественным, но сидело внутри, оно вышло в мои сочинения. А упрощение наступило не потому, что я стал пользоваться более простой техникой,Беседы с Альфредом Шнитке 51
я и до сих пор иногда пользуюсь и серийной техникой,
и интонационно это может быть эпизодически не менее сложно, чем тогда. Ощущение упрощения наступило оттого, что это перестало быть иероглифическим языком, языком с зашифрованным смыслом. Вся эта серийная музыка у многих авторов мне кажется все-таки своего рода обманом. Ну, например, Структуры Булеза. Что это - загадка без разгадки? Что это - искусственный язык, дистиллированный музыкальный язык, подчиненный строжайшей рациональной регламентации, но как бы совсем внесемантический (а музыка все-таки свою семантику имеет, хотя и не сюжетную)? То ли это язык, где "семантика вся случайная и осколочная. Как будто человек управляет силами, которые ему не подчиняются. Ну, скажем, как ученик чародея, как человек, который использует магические формулы, не владея силами, которые приходят по этим заклинаниям. Не в состоянии с ними справиться. Я увидел в этом очень большую опасность для себя и решил, что лучше потеряю в престиже, в "современности", в чем угодно, но не буду дальше писать эту музыку. И в дальнейшем я пытался - если и ставил себе точные задачи, пользовался вычисленными ритмами или сериями, - все-таки их музыкально интонировать про себя. Я все-таки писал музыку, которую слышу, а не ту, которая по серийным законам вырисовывалась и вычислялась на бумаге.- Но музыка стала проще не только по своей внутренней структуре,
но даже и просто по фактуре. Ведь и для исполнителей твоя музыка семидесятых годов легче, чем более ранняя?- Диалог для виолончели и ансамбля, к примеру, в чем-то сложнее,
наверное, чем Виолончельная соната?
А.Ш. Не могу сказать, не знаю. Не уверен, что она проще.
Там разного типа трудности. Ну вот все эти так называемые иррациональные метры и ритмы, дуоли к квинтолям, что есть в Диалоге, - все это я тогда писал по точному ритмическому ощущению, я помню, я не вычислял их. Кстати, Диалог -.одно из тех сочинений, где мало вычислений. Там была идея неповторяемости и ритмической импровизационности, и кроме того, все сделано из трех нот, микромртива "до-ре-до диез". Но все-таки эти ритмы мне сейчас, на расстоянии, кажутся несоответствующими какой-то коренной природе человека и жизни, поскольку в основе жизни все-таки заложена некая периодичность, хотя эта периодичность и меняющаяся, связанная асcиммeтpиeй, c пpoтивoдeйcтвиeм каких-то нарушающих эту периодичность факторов. Однако догматическое избегание периодичности в серийной мyзыке мнe кажeтcя caмым бoльшим злом. Я вообще убежден, что наибольшие просчеты и ложные догмы сериализма - даже не в звуковысотной стороне, а в ритмике. И, кстати, чем замечателен Штокхаузен, что он это одним из первых понял и вернулся к хотя и усложненной, но все же периодичности.
- Значит, в своем смысле Мессиан был не прав, когда разработал
Беседы с Альфредом Шнитке 52
сериальную звуковысотно-ритмическую систему?
А.Ш. Этого я не скажу, он нашел новый прием, технически очень интересный, но он же не абсолютизировал это, он не сделал это догмой. Он был прав для себя. А те, кто сделал из этого догму, были неправы. И Веберн был для себя прав, когда он придумал строжайшую технику контроля не только над звуковысотной стороной, но и над ритмикой - ведь у него есть тончайшие вещи, которые вне серийной техники лежат. Например, замечательные унисоны - перекрестки вариантов серий. У него масса унисонов. Эти унисоны - они как бы являются какими-то тональными центрами...
- Насколько я понимаю, упрощение языка было вызвано и анализом какой-то другой музыки? Я как-то брал у тебя партитуру Потопа Стравинского, проанализированную тобой. И заметил, что этот анализ сделан с точки зрения того, где можно найти какие-то опорные пункты тональности, какие-то унисоны, удвоения. Видимо, ты искал их...
А.Ш.
Это я всегда искал и в тот период, когда писал серийную музыку. Кстати, в 1966 году написанный Скрипичный концерт - он и серийный, с элементами алеаторики, и вместе с тем, там центральный тон соль. Искал я это всегда. Например в фортепианных Вариациях Веберна - опора на тритон ля-ми бемоль. И очень важно звуковысотное положение интервала - оно, как правило, у Веберна стабильно. И отсюда идея штокхаузеновского сочинения Kreuzspiel - одного из ярких в раннем его творчестве.- Но все же это упрощение,
которое ты испытал в своей музыке,-есть ли оно, по-твоему, всеобщий для европейской музыки процесс, одна из примет времени, или каждый "упрощается" по-своему и изолированно, независимо от других и от идеи времени?Беседы с Альфредом Шнитке 53
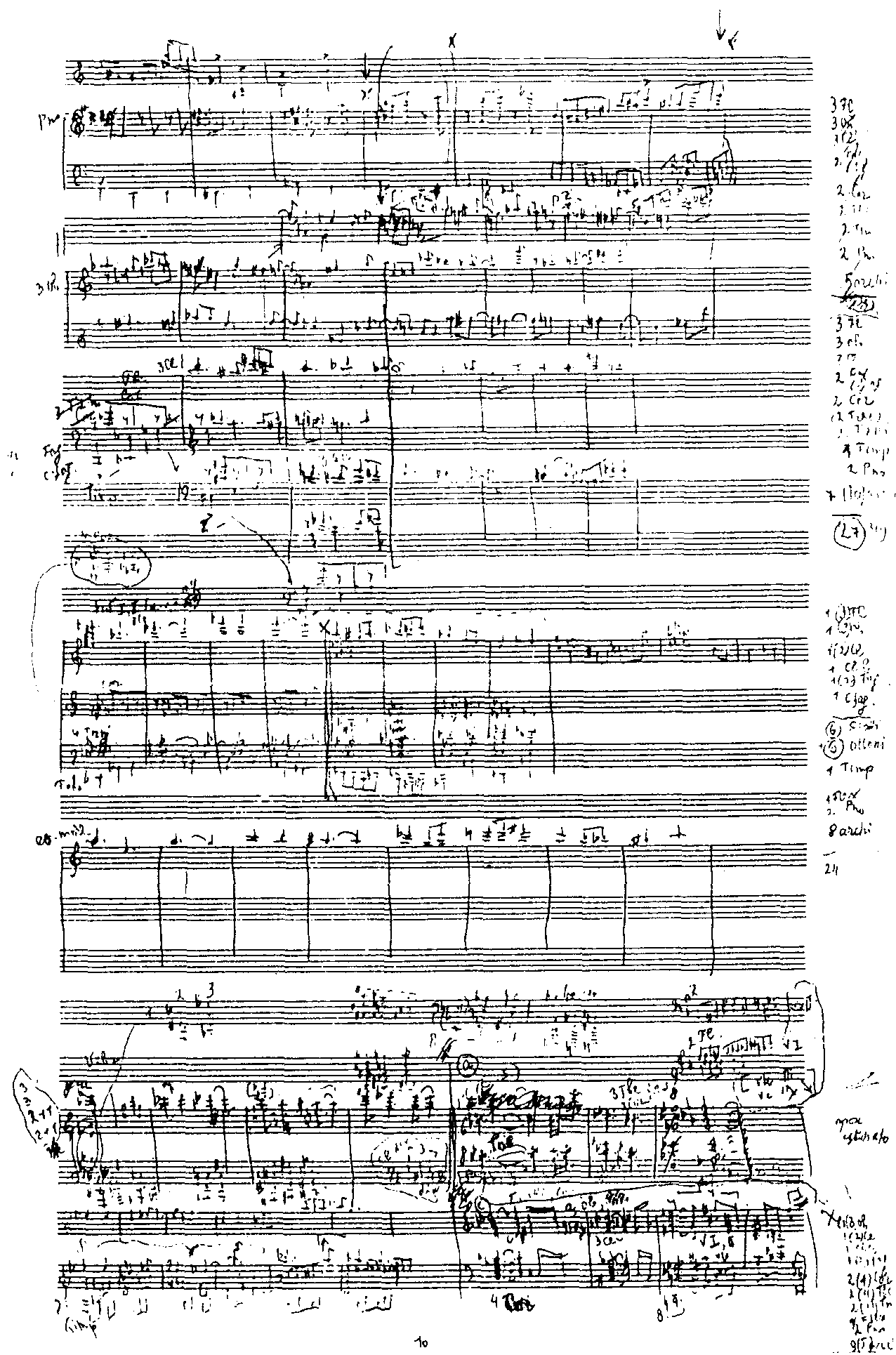
Эскизы А. Шнитке
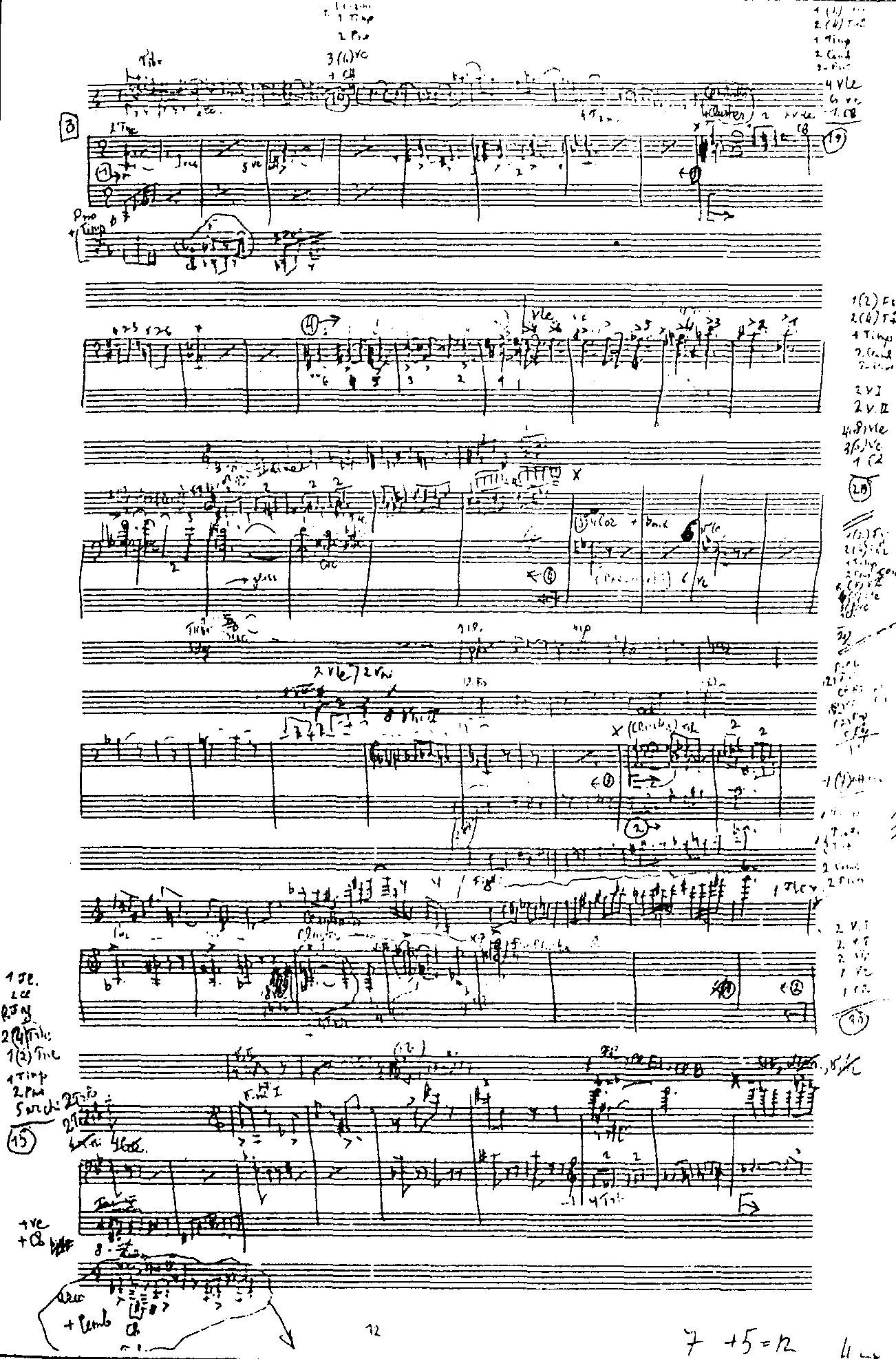
Эскизы А. Шнитке
Штокхаузена. Сочинение,
которое мне казалось тогда живым, динамическим, просто взрывчатым. Оно мне кажется сейчас анемичным, одномерным. Конечно, я его слушаю в записи, а не в реальной стереофонии трех оркестров, но и тогда я его в живом виде не слышал.- В другой раз Сильвестров,
когда ему сказали, что авангард, дескать, изжил себя, ответил, что напрасно враги авангарда празднуют победу: бывает утро и вечер, и сейчас, быть может, именно вечер, но за ним может наступить утро.- А в прикладной твоей музыке произошли какие-то изменения,
связанные с такой эволюцией языка?- Прикладная музыка всегда была значительно проще?
- Мне кажется,
что сам процесс работы в кино вызывает у тебя неприязнь?А.Ш.
Да, я себя сам загнал в какую-то клетку. Наверное, если свежий человек сейчас придет в кино и получит сценарий, он предложит более свежее решение. Потому что он не скован привычным внутренним стереотипом. Поэтому мне надо было из кино бежать, что я и сделал.- Раньше ты говорил,
что некоторые сочинения, возникают как .бы в свободном парении, сами собой, а другие, наоборот, после тщательной подготовительной работы.А.Ш.
Да, есть два типа сочинения, я нахожусь то в одном, то в другом. Последние годы я стал меньше опираться в работе на рассчитанное и точно сделанное, и больше - на как бы непроизвольное, вроде бы расчетам не поддающееся. Из последних "рассчитанных" сочинений могу назвать Четвертую симфонию и Третье concerto grosso. Там очень много рассчитанного - но не в смысле техники подобной двенадцатитоновой. В частности, в Третьем concerto grosso - монтаж огромного количества цитат, потому что я опять поставил перед собой задачу не трансформировать цитаты, а представить их друг перед другом в чистом виде.- Работаешь ли ты последовательно над новым сочинением или сначала возникают,
скажем, конец, середина, некие общие очертания в целом?А.Ш.
Работа идет последовательно, хотя это не означает, что она идет разумно и правильно. От ощущения формы в целом могут появляться эпизоды, достаточно дaлекие - мoжeт быть, не paзгaдaнный мною пока материал, а может быть, как нечто, выстраивающееся в свою череду.- Откуда берется материал сочинения?
56 Беседы с Альфредом Шнитке
- Материал возникает как нечто,
существующее вне тебя?- Как ты относишься к каким-то внемузыкальным идеям в процессе работы?
А.Ш.
Конечно, вещи типа сюжета могут приблизить к тому, что надо. Но не гарантируют этого приближения. У меня есть ощущение, что некоторые идеи мне были как бы подарены - они не от меня. Такое ощущение у мен" время от времени появляется. Например, финал Первого виолончельного концерта. Или Sanfitus в Реквиеме - эта часть мне приснилась. И присни-57
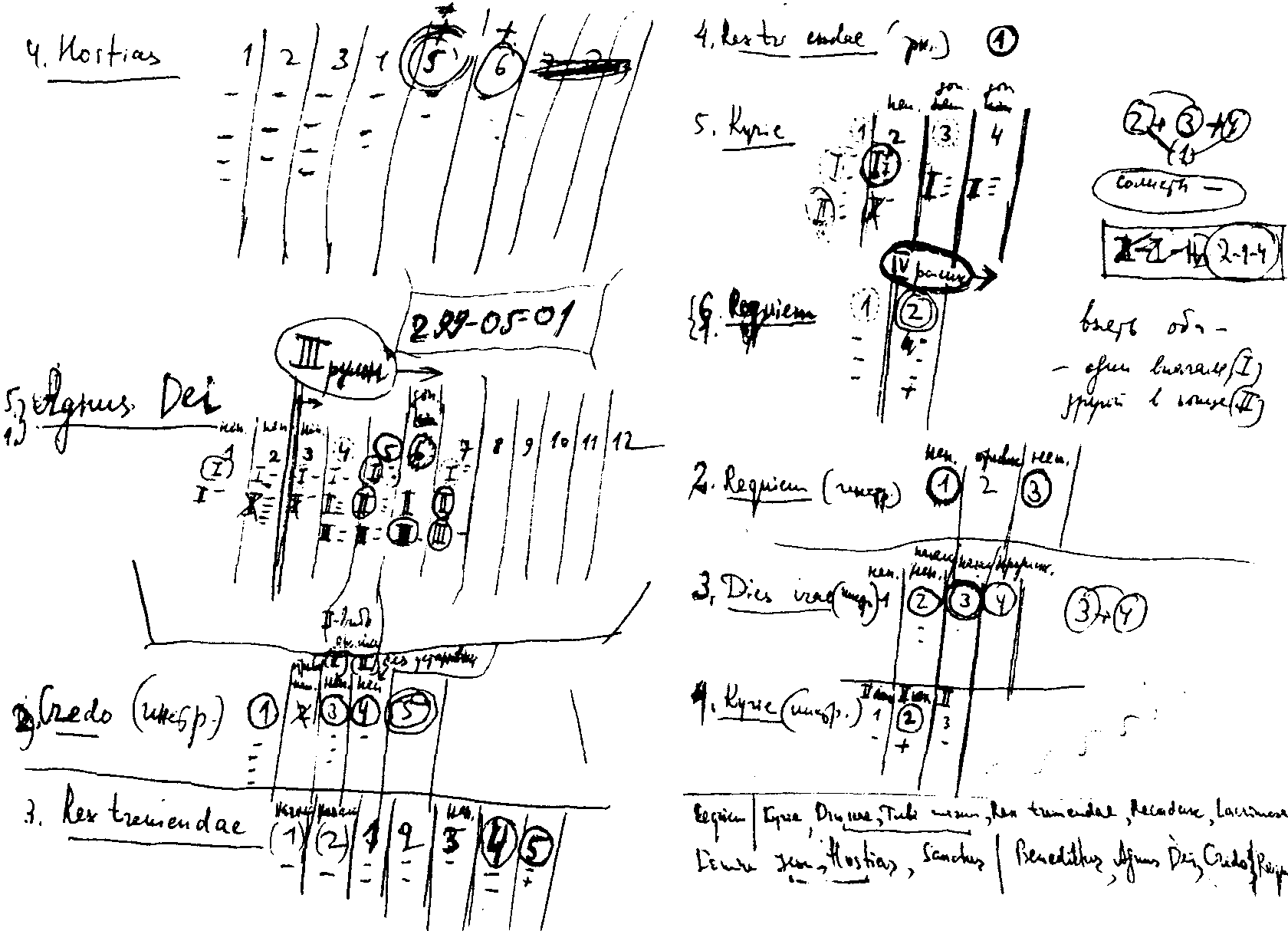 Наброски к Реквиему 1
Наброски к Реквиему 1
лась не такой,
какой обычно бывает - пышной. Тут - тихий Sanctus. До середины этой части, во всяком случае, все мне приснилось, это хорошо помню. Это был подарок. И для меня это было очень важным - я этого сам в себе не оспаривал. Вообще, во всем Реквиеме было для меня что-то необъяснимое. Я не собирался писать его таким языком, и вообще некоторые темы первоначально предполагались для Квинтета.- Как приходят такие "подарочные" идеи? Ожидаешь ли их заранее?
А.Ш.
К сожалению, сами они, как правило, не приходят. Это возникает в процессе работы - хотя может возникнуть и не в процессе работы.- Когда идея возникает подобным образом,
остается ли место для оценочной позиции?А.Ш.
Бывает материал, который отбрасывается. Но в нужный момент чувствуешь: это то," что необходимо.Беседы с Альфредом Шнитке 58
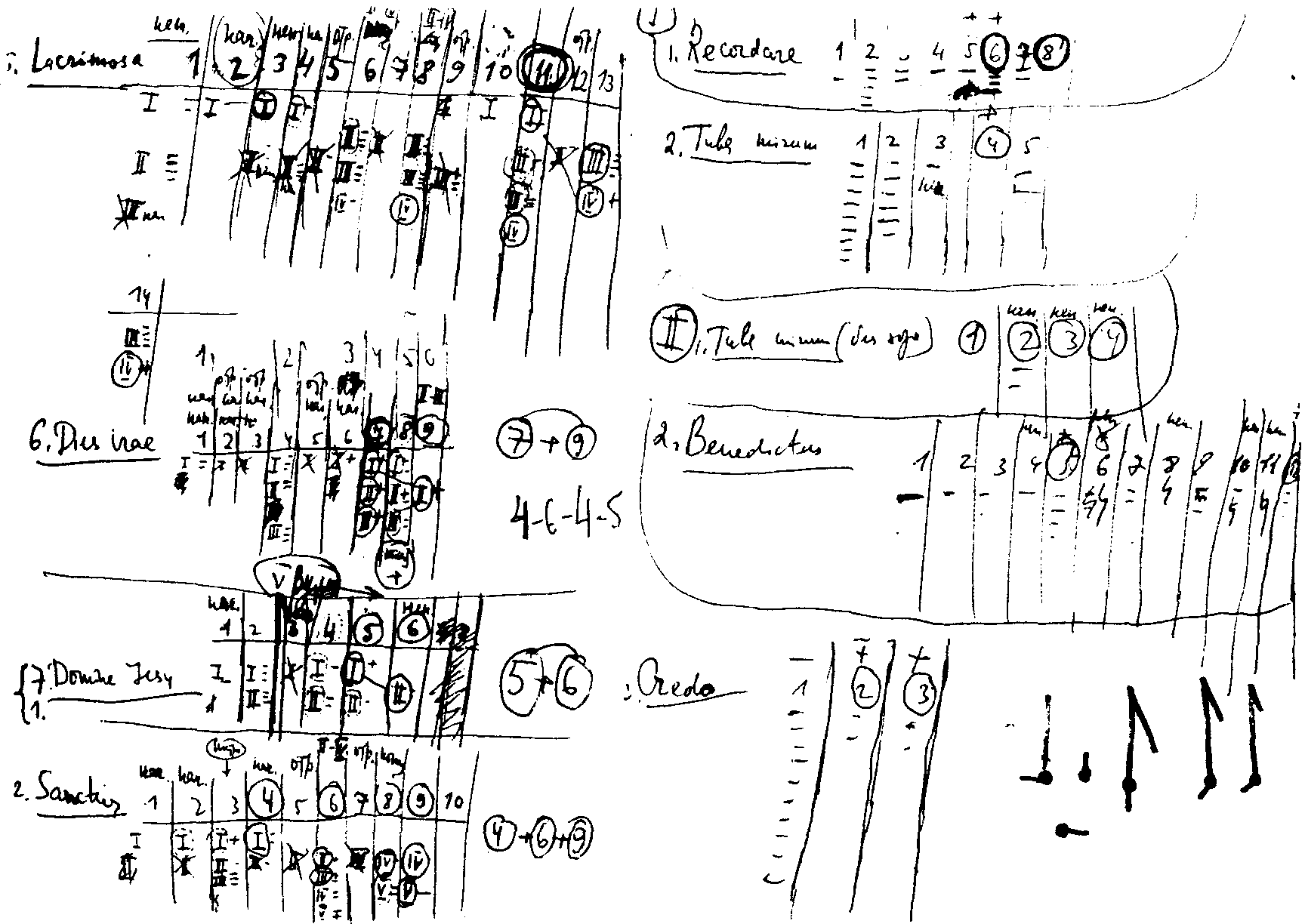 Наброски к Реквиему2
Наброски к Реквиему2
- Есть ли у тебя с самого начала представление о том, чем будет целое, и ориентируешься ли ты на какие-то известные принципы музыкальных форм, когда начинаешь писать?
А.Ш. Чем дальше идет время, тем больше я ощущаю неполноту окончательных выводов и решений. Если в том, что человек делает, есть преемственность, то она не от его сознательного желания зависит. Так, у меня впечатление, что меня водят всю жизнь на веревочке, на каком-то шнуре: пишу, могу что-то, но все время на этом шнуре болтаюсь. Это - как бы ограничение моей свободы. Мне не видно, в чем оно, но оно бесспорно.
Другое ощущение - все, что я делаю - это попытки приблизиться к тому, что не я делаю, а что уже есть, и я должен только зафиксировать. Но я должен работать, я должен ясно услышать то, что есть вне меня. Это значит, что сколько на Земле сейчас людей, столько и миров.
Для меня есть мне не видимая, но бесспорно существующая другая
Беседы с Альфредом Шнитке 59
реальность. И все, что странного со мною делается, странно только для меня, а с точки зрения этой реальности, наверное, объяснимо. Невероятное количество рифмующихся вещей в жизни! Невероятное количество как бы странностей, параллелей.
- Я вообще хотел спросить о музыкальном и внемузыкальном в твоих сочинениях. Мне кажется, что внемузыкальное в принципе является двигателем музыкального. Сначала появляется внемузыкальное, оно часто не укладывается в какие-то музыкальные законы, кажется инородным, вульгарным - нехорошим, одним словом. Так, как это было в свое время с Вагнером. А потом - уже с каких-то новых позиций - внемузыкальное "распирает" старые музыкальные законы и как-то незаметно создает новые. Проходит лет сто, и это внемузыкальное начинает восприниматься как чисто музыкальное, и не может восприниматься иначе. К примеру, музыка Рахманинова. Для многих, конечно, она источник ностальгического настроения. Но уже сейчас, по прошествии многих лет, она может и должна восприниматься чисто музыкально. С Шостаковичем, как мне кажется, сегодня происходит то же самое: то, что раньше воспринималось в его музыке скорее символическй, чем чисто музыкально, теперь сообщает новые измерения музыкальной форме, открывает нов